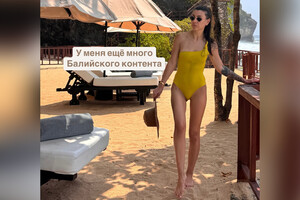Один из хадисов, то бишь изречений пророка Мухаммеда, гласит: «Воистину, у Аллаха есть девяносто девять имен – сто без одного, и тот, кто исчислит их, войдет в рай». Оговоримся сразу, что посещение этой выставки, представляющей самое значительное в России частное собрание мусульманских раритетов из фонда Марджани, несмотря на ее название, райских кущ никому не гарантирует, поскольку количество имен Всевышнего в данном случае является лишь намеком на число экспонатов. Однако приравнять поход в музей к подвигу благочестия все-таки возможно, пожалуй, если держаться строго молитвенного настроения. Для всех остальных посетителей это будет знакомством с той цивилизацией, упоминания про которую часто звучат в новостях, но которая вряд ли понятна немусульманам. Кстати, Россия в этом отношении заметно отстает от Европы, где имеется целый ряд исламских музеев (в смысле, музеев исламской культуры, а не музеев «только для правоверных»). Вот и в постоянной экспозиции ГМИИ имени Пушкина нет подобного раздела, на что Ирина Антонова не преминула сама себе посетовать в ходе пресс-конференции. Зато теперь в Музее личных коллекций на три месяца обосновалась выставка, хотя бы отчасти сей пробел заполняющая.
Здесь демонстрируется коллекция Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Шихабуддина Марджани (так звали известного татарского богослова и историка XIX века). Вернее, не вся коллекция целиком – между прочим, она по своему составу на территории России уступает только исламскому собранию Эрмитажа, – а ее сливки и жемчужины. Те самые девяносто девять экспонатов.
Среди них есть редкости даже по мировым меркам, к примеру 11 листов из рукописи Корана, созданной в Иране в 1430-е – 1440-е годы: это единственный на планете старинный список священного текста, где слова соседствуют с изображениями живых существ.
Тут не помешало бы разобраться в одном вопросе, без понимания которого будет не вполне ясна общая ситуация в исламском искусстве. Речь о фигуративности, которая якобы изначально и строго-настрого в этой религии запрещена. В действительности все обстоит сложнее. Нельзя изображать Всевышнего – и это даже не запрет, а констатация метафизического факта: Аллах не имеет никакой формы, доступной человеческим органам восприятия. Что же касается изображения земных реалий, то опасения на сей счет были в первую очередь связаны с угрозой возврата к многобожию и с искушением для художника уподобиться демиургу. Мусульманские богословы предостерегали от почитания каких-либо фигур и от того, чтобы автор, взявшийся копировать творения Аллаха, возомнил себя богочеловеком.
Иными словами, если художник смиренен, а зритель богобоязнен, то особого греха в фигуративности нет.
Впрочем схоластические споры на эту тему продолжались веками. Например, после долгих дискуссий родился вывод, что скульптура крамольнее живописи, поскольку объемное изображение отбрасывает тень, а это уже прямое подражание акту Первотворения. (По той же причине, кстати, вы нигде в персидских миниатюрах не обнаружите тени от людей, животных, деревьев или зданий). Время от времени распространялись специальные рекомендации, уберегающие художников от излишнего натурализма. К тому же обычно подразумевалось, что зритель воспринимает запечатленную сцену не буквально, а выискивает в ней аллегории. Но сами по себе двумерные изображения реальности в исламском искусстве совсем не редки. Использовать их или нет, в большой степени зависело от местных традиций.
Так что не удивляйтесь обилию на выставке биоморфных образов и даже развернутых сюжетов – они вполне укладываются в понятие «классическое искусство исламского мира».
Главным форпостом фигуративности был, конечно, Иран с его невероятно развитой культурой книжных миниатюр.
В экспозиции можно увидеть два десятка роскошных иллюстраций к поэмам Фирдоуси, Джами, Саади, Низами. Да и в других регионах художники и ремесленники порой не чуждались отображений земного бытия:
то в росписи ордынской чаши обнаружится павлин, то на бронзовом ковше с Урала возникнет загадочной персонаж в обнимку с бобром (что подразумевала данная аллегория, историкам выяснить до сих пор не удалось).
Узнаваемая растительность или плоды – цветы, листья, фрукты, – встречаются и того чаще. Но все же «правящая чета» в мусульманском искусстве – это орнамент и каллиграфия.
Ибо учение пророка – прежде всего Слово, изреченное и записанное. Хорошо известно о пристрастии к книжности христиан, но
в мусульманской цивилизации любая строчка Корана обладает божественной силой уже сама по себе, просто будучи начертанной на бумаге или выбитой в камне.
На этом свойстве священных текстов базируется практически вся исламская визуальная культура. Каллиграфии с сурами Корана преподносятся едва ли не высшим достижением человеческого духа, потому что они не только красивы, но и молитвенны по определению. Соответственно, внесение коранических текстов в произведение искусства добавляет этому произведению и эстетическое качество, и статус, и даже материальную ценность. Каллиграфия может трансформироваться в орнамент: если арабская вязь претерпевает ряд формальных изменений, то перед вами вроде бы уже и не текст, а некая геометрическая абстракция. Однако не сомневайтесь: все необходимые религиозные смыслы там сохранены.
По мнению средневековых исламских теоретиков, хорошее произведение искусства должно иметь не менее семи уровней толкования. Это касалось чего угодно – и поэзии, и музыки, и храмовых изразцов, и узорных кувшинов. И даже ковров, синтетические подобия которых еще недавно украшали жилища почти всех советских атеистов. Представляете,
в каждом доме на стене или на полу завуалированная пропаганда ислама, а мужики-то из идеологического отдела ЦК и не знали…
Словом, будто бы беспредметные художества мусульман на деле очень даже предметны. Они поистине «говорящие», надо только знать язык символов. Естественно, далеко не всякий посетитель выставки в МЛК сумеет докопаться не то что до седьмого, а хотя бы до второго-третьего слоя толкований. Но все же красота и изящество в международном или межрелигиозном контексте понимаемы гораздо лучше эсперанто.
Так что редчайший сосуд из двухслойного стекла сирийской работы (таких на Земле осталось всего четыре) или златотканая османская завеса, бронзовая курильница из Ирана или серебряное блюдо из Анатолии, свадебное покрывало из Узбекистана или латунный кувшин из Месопотамии – все эти артефакты не требуют перевода на «общечеловеческий». Они и так неотъемлемая часть планетарной культуры. Нужно лишь немного прочувствовать специфику.
Любопытно, кстати, что искусство исламского мира принято классифицировать почти так же, как древнерусское: исследователи в обоих случаях выделяют домонгольский, монгольский и послемонгольский периоды. Правда, совпадение тут скорее хронологическое, нежели смысловое. На художественную культуру Руси протекторат Золотой Орды почти не повлиял, разве что затормозил ее развитие и временно ослабил, а вот
на азиатских просторах роль правителей-чингисидов оказалась куда более революционной.
Приняв ислам, монголы взялись прививать китайские навыки бухарским мастерам, а персидские традиции спроецировали на афганцев – короче, устроили своего рода «глобализацию». В результате исламская культура обогатилась различными эстетическими заимствованиями, которые, впрочем, не изменили ее религиозной сути. Имея в виду тот самый «интеграционный процесс», устроители выставки сделали монгольский раздел наиболее внушительным по объему.
Однако это все же частности, существеннее здесь другое: организаторы преподносят выставку как сборник исторических феноменов, по поводу которых странно было бы развязывать актуальные политические дискуссии или понаехал-style разборки. Условно говоря, если вы негативно относитесь к шахидам или недолюбливаете гастарбайтеров, это не означает, что вы не способны оценить и полюбить работы хорезмских мастеров XVI столетия, к примеру. Не то чтобы тут сквозил утопический призыв к братскому единению всех народов и конфессий, но вообще-то стремление понять чужую культуру, тем более до такой степени соседнюю, как ислам, – это стремление здравое и нормальное. Не говоря о том, что ведь интересно же и чрезвычайно красиво.


 Цивилизация
Цивилизация