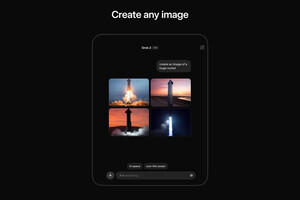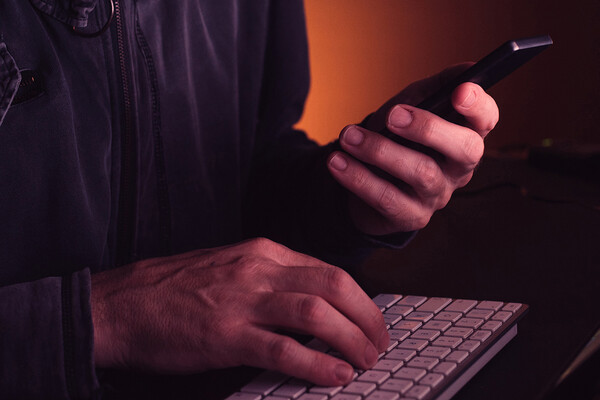В 80-е, когда Персеваль только начинал ставить, в тихой Бельгии, как он вспоминает, было принято воссоздавать спектакли по оригинальным мизансценам Брехта и не отступать от них ни на шаг. На этом фоне его театр, в котором режиссер будто нарочно шел против любых правил, произвел эффект разорвавшейся бомбы. С Персевалем тогда боролись так же яростно, как сейчас выступают у нас против Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова, объявляя их злостными врагами русского искусства, – но в итоге он постепенно стал постоянным участником всех европейских фестивалей,
а затем даже возглавил театр Toneelhuis в Антверпене, который сам когда-то считал олицетворением рутины.
В 2009 году он покинул Бельгию ради руководства гамбургским театром «Талия», где и создал две показанные в Москве постановки.
В России Персеваль бывал неоднократно, а на петербургском фестивале «Балтийский дом» он давно уже числится постоянным участником. И первым его спектаклем, привезенным туда, был как раз «Отелло» — только в изначальной версии, созданной 10 лет назад в мюнхенском «Каммершпиле». Показанный сейчас в Москве гамбургский вариант – это перенос спектакля, с теми же актерами в главных ролях.
Персеваль давно уже ставит почти одни только классические пьесы – но изменяя их до неузнаваемости. Каждый текст, будь то Шекспир, Чехов, Горький или Артур Миллер, разные драматурги по его заказу переписывают на современный лад. Сохраняя большинство героев, интригу и все сюжетные повороты – но спрессовывая многоактные сочинения до двух часов действия и заставляя персонажей говорить на сегодняшнем сленге.
Поэтому когда его спектакли показывают в России, матерные тирады на табло с титрами следуют одна за другой.
И как ни странно, это совсем не выглядит пустым эпатажем или голым радикализмом: в лучших постановках Персеваля переделка текста не просто актуализирует его, но как бы вскрывает подводные токи и обнажает смыслы, изначально заложенные в первоисточнике, но обычно уходящие на второй план.
«Отелло» адаптировал для спектакля известный немецкий писатель Феридун Заимоглу – турок, переехавший в Германию и сам неизбежно столкнувшийся с отношением, подобным тому, что шекспировский мавр встретил в Венеции. Тема противостояния двух культур нагнетается до предела.
Когда после отставки Отелло (у Персеваля она происходит, в отличие от пьесы, еще до убийства Дездемоны) один из героев говорит про его соотечественников «Помяните мое слово, они еще будут править нашей страной» — в зале вдруг раздаются аплодисменты.
В переписанном тексте нащупаны самые болезненные точки, причем оказывается, что за время, прошедшее с премьеры, они только обострились. И речь не только о главном герое, которого именуют исключительно «шоко» или «ниггер», притом что играет его белый актер (еще один важный парадокс: получается, что Отелло все воспринимают чужим, хотя он таковым на самом деле не является).
Яго обзывает своего ненавистного соперника «чертовым педиком», хотя никаких явных доказательств тому нет, и непрерывно кроет гомосексуалистов на чем свет стоит — что, понятно, дает повод усомниться в его собственной ориентации.
Также он постоянно сыпет самыми неприличными анекдотами, да и вообще речь героев изобилует описаниями сексуальных перверсий, на фоне которых де Сад покажется верхом целомудрия. Персеваль и Заимоглу вскрывают патологию современного человека, ту озлобленность, которой дышит все вокруг и от которой можно бежать, но нельзя оградиться.
Пространство спектакля, как всегда у Персеваля, предельно просто и аскетично.
Перевернутый белый рояль, на нем верхом черный (животное о двух спинах, творимое мавром и Дездемоной, – так у Шекспира). За последний садится пианист и до самого конца сопровождает действие своей игрой. Йенс Томас, популярный в Германии музыкант и композитор, каждый раз импровизирует, то делая паузы, то почти с яростью набрасываясь на рояль и иногда даже начиная петь. Его музыка делается не фоном спектакля, но его сердцем, и непонятно даже, иллюстрирует ли он реплики то лирическим, то ироничным, то трагедийным звучанием или же сам задает им тон.
«Отелло» Персеваля достоин того, чтобы войти как образец в учебники режиссерского мастерства. Редко можно увидеть так четко и детально простроенное действие. У актеров ни одного случайного жеста, ни одной интонации, не заложенной постановщиком. Они двигаются в полумраке, так, что часто нельзя разглядеть их лица, – и в эти моменты ничто не отвлекает от текста. Концепция точна и строга: все герои одеты в черные офисные костюмы — кроме Дездемоны, не снимающей белое платье, единственной блондинки среди лысеющих брюнетов и молодящихся старцев. Это идеальный замысел, прозрачный в своей красоте. Запоминаются резкие, графичные мизансцены. Персеваль знает, как выразить эмоцию одним легким движением; вот Дездемона (или просто Мона, как к ней здесь часто обращаются) уводит Отелло в спальню, бодая его в живот. Вот Отелло, слушая наветы Яго, стоит к нему спиной, впившись указательными пальцами в виски. Вот в финале он душит жену, просто обняв ее на несколько мгновений так крепко, что она падает замертво. А потом он кричит «Все кончено, кончено, кончено!», и – занавес.
Никакого раскаяния, обнаружения правды и кары злодеям. Главный принцип «Отелло» Персеваля – ничего лишнего.
И все бы замечательно, но в стремлении к идеалу постановка Персеваля делается сухой и выхолощенной. Виртуозно отработанные мизансцены не насыщаются чувством – которое явно было вложено в них изначально. 9 лет для спектакля – возраст огромный, и это здесь ощущается слишком явно. Смотря его, сразу представляешь себе Дездемону Джулии Йентш, какой она была на самой первой премьере в Мюнхене — больше похожей на девочку, чем на женщину, а играющего Отелло Томаса Тиме – легким и подвижным, а не таким грузным и одышливым.
«Отелло» Персеваля кажется тем случаем, когда прикасаешься к театральной легенде уже на ее исходе, воспринимая ее как схему, без эмоционального подключения.
«Вишневый сад», вышедший полгода назад, в отличие от «Отелло», кажется спектаклем мeртворожденным. Все принципы Персеваля здесь в наличии, только на этот раз они строго, по-лабораторному дозированы. Текст не переписан, а просто сильно сокращен да разбавлен редкими вставками. Самая яркая из них заключается в том, что
Лопахин собирается не отдать сад Раневской под дачи, а разбить на его месте рапсовое поле, чтобы производить биотопливо.
На всем протяжении спектакля герои сидят в ряд на стульях напротив зрителей, почти ни разу с них не вставая. Актеры играют отстраненно и существуют в абсурдной манере. Все время обращаются скорее к зрителям, чем друг к другу, а сидящих по обе руки словно не замечают. В начале спектакля они с долгими паузами произносят чеховские реплики, между которыми не обнаруживается вообще никакой связи, – тот известный принцип драматурга, по которому персонажи в диалоге говорят свои собственные речи, никак не отвечая собеседнику, доводится здесь до логического завершения.
Действие перенесено не в XXI век, а в условные – навсегда остановившиеся – 70-е.
Древний Фирс превращается в импозантного слугу средних лет, с которым Раневская то и дело танцует под музыку из «Мужчины и женщины» Клода Лелуша, вспоминая своего французского возлюбленного. Брутальный слуга Яша с бородой и длинными волосами ходит в лосинах, на каблуках и говорит с парижским прононсом. Сама же Раневская носит темное элегантное платье с блестящим узором, которое тоже недвусмысленно указывает на эпоху. Из более современных примет – только мобильник, по которому Лопахин все время ведет переговоры о покупке сада на каком-то непонятном языке.
Персеваль уподобляет чеховских героев персонажам Беккета: точно так же они ждут Годо, который никогда к ним не придет. В его «Вишневом саде» ничего не меняется и вообще не происходит, пока жизнь незаметно и стремительно проносится мимо. Эти люди (кроме Лопахина) ничего не делают и не думают, а просто сидят и ностальгируют о прекрасном прошлом.
Проблема в том, что вся эта концепция становится ясна за первые 10 минут и дальше почти не развивается.
Вялому по ритму спектаклю не хватает актерской энергетики, которая могла бы его оживить. И хотя он длится меньше двух часов, кажется, что он идет вечно.
Москва увидела спектакли Люка Персеваля не в лучшей форме – и если бы их привезли всего несколько лет назад, возможно, резонанс был бы гораздо сильней. Сегодня же то, что не так давно воспринималось у нас диким авангардом, выглядит театром резким, жестким, но почти классическим, и принадлежит в глазах зрителей скорее прошлому, чем будущему. Однако жителям столиц (в которых большинство не только зрителей, но и профессионалов от театра до сих пор уверены, что классику надо ставить по канонам) в обозримом будущем это все равно будет необходимо.

 Цивилизация
Цивилизация