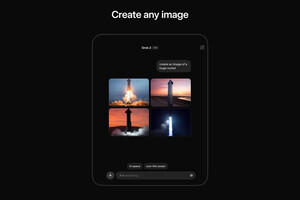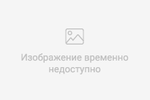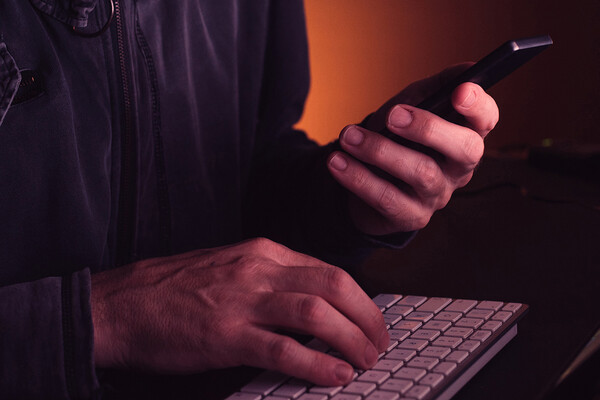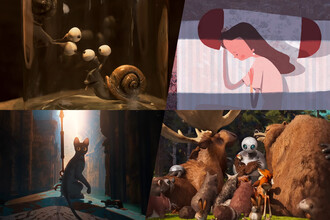В искусстве обычно бывают педагоги, но изредка встречаются мистагоги. К этой категории духовных учителей, почти гипнотически влияющих на молодые умы, несомненно, принадлежал и Михаил Матвеевич Шварцман — художник с прижизненной репутацией гения. Конечно, в андерграундных кругах всегда любили награждать друг друга лестными эпитетами (а кто же еще похвалит в отсутствие широкой аудитории?), но случай Шварцмана все-таки выделяется на этом фоне. Его гениальность признавали не по принципу «кукушка хвалит петуха», а в некоторой остолбенелости, порой даже против собственной воли. Михаил Матвеевич проповедовал и воплощал идеи, которые были мало кому близки из неофициальных авторов, не говоря уж про официальных.
Шварцмана часто не понимали или не хотели понимать, но вот отрицать его гениальность почему-то не решались.
В определенной мере это можно объяснить персональной харизмой художника, о которой упоминают решительно все, кто с ним общался хотя бы короткое время. Но на одной только харизме, если говорить о творческих результатах, далеко не уедешь, а он «уехал» далеко, дальше не придумаешь. Его главным делом стала «духовная работа, основу которой составляет свидетельство о Духе Святом». Тут всякий бы крепко призадумался, прежде чем поверить в искренность такого девиза, но Шварцману верили даже идейные противники. Например, хорошо известна фраза, которой Илья Кабаков охарактеризовал взгляды Михаила Матвеевича на искусство: «Нельзя схватить ангела за жопу», однако и в среде концептуалистов по отношению к этому художнику испытывали что-то вроде пиетета. Если они были творцами подпольными, то Шварцман — катакомбным, на манер древних христиан.
Сама его риторика странным образом перекликалась с евангельским императивом «творю все новое», заставляя кого вздрагивать, а кого уповать.
«Работы свои называю «иературами». Дело мое — иератизм. Я иерат — термин явился мне в видении. Я иерат — тот, через кого идет вселенский знакопоток. Знаменую молчаливое имя — Знак Духа Господня. Схождением в мириад знаков, жертвенной сменой знаковых метаморфоз формирую иературу. А в иературе архитектонично спрессован мистический опыт человека». Согласитесь, совсем не похоже на парадигмы, свойственные нашему андерграунду 60—80-х. Скорее уж, эта безапелляционная установочность напоминает манифесты «первого авангарда», что косвенно подтверждается и самими произведениями Шварцмана. В них ощутима преемственность от футуризма и супрематизма, правда, смысл здесь иной, не революционный, а мистический, как в иконах. Автор говорил: «Малевич подозревал Бога, я Его утверждаю!»
Словосочетание «школа Шварцмана» понимают по-разному.
Так получилось из-за того, что Михаил Матвеевич почти два десятилетия сочетал занятия живописью с работой главного художника Специального художественно-конструкторского бюро Легпрома РСФСР. Создание товарных знаков и фирменного стиля для обувных и швейных фабрик он не считал «барщиной», относился к делу экспериментально и вдохновенно, заразив своим отношением десятки последователей. Поэтому для графических дизайнеров понятие «школа Шварцмана» наделено вполне цеховым содержанием.
Но на нынешней выставке представлена другая школа — живописная.
В применении именно к ней следует пользоваться терминами «иератизм», «иерография», «инвенция», «метапортрет» и прочими выражениями из потаенного шварцмановского арсенала. Идея собственной школы такого рода пришла к нему, как часто бывало, в видении, и он не замедлил воплотить ее в жизнь. Вербовал себе учеников из числа молодых художников, руководствуясь одному ему ведомыми критериями. Молитвенную торжественность в совместной работе Михаил Матвеевич соединял со своего рода дзенскими приемами педагогики, о чем его бывшие подмастерья по сей день вспоминают с трепетом и восторгом.
Однако полноценной школы — по крайней мере, в старинном ее понимании — все же не получилось.
Показанные рядом с произведениями учителя, работы Анатолия Чащинского, Дмитрия Комиссарова, Никиты Медведева, Михаила Федорова, Геннадия Спирина и нескольких других шварцмановских питомцев выглядят то эпигонством, то стилизацией, то индивидуальным «уклонизмом», но никак не иературами в сокровенном смысле. Возможно, вся эта затея с воспитанием преданных «апостолов», несущих людям «благую весть» об истинном назначении искусства, изначально была утопической. Но таков уж был Михаил Матвеевич — заложник собственной харизмы и профетического дара. Иначе действовать не мог, вероятно. В итоге остался в истории фигурой загадочной, отдельной и, по большому счету, одинокой.

 Цивилизация
Цивилизация