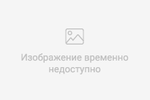В традиционной формулировке «наивное искусство» на первый план само собой вылезает слово «наивное». Из него будто бы вытекает, что авторы подобного толка – люди, мягко говоря, сентиментальные, не слишком проницательные, воспринимающие мир сквозь пелену мифов и социальных шаблонов. Однако ценители этого жанра под наивностью понимают нечто иное, в первую очередь художественные приемы, которые должны бы выглядеть нелепыми с точки зрения профессионала (которые, кстати, как раз не склонны потешаться над неумелостью примитивистов). Что же до наивности мировосприятия, то с этим и вовсе непросто. Самодеятельный художник редко претендует на звание мыслителя-философа, но это не означает, будто его опусы тривиальны и лишены глубоких идей.
Отсутствие школы и недостаток систематических знаний порой приводят к феерическим прорывам в сферу бессознательного – более того, в сферу коллективного бессознательного.
Действенно в ней оперировать мало кому дано из интеллектуалов, а вот среди наивистов такие примеры нередки.
На выставке в музее-заповеднике «Царицыно» (она проходит в рамках Фестиваля коллекций современного искусства, инициированного ГЦСИ) представлены семь авторов, каждый из которых мог бы считать себя звездой наивного искусства, если бы мыслил в подобных категориях. Вернее, художников на выставке все-таки восемь, но Сергея Горшкова, создателя скульптурной инсталляции «Вкусная и здоровая пища» из 30 предметов, отнести к подлинным примитивистам все-таки нельзя. Он весьма изысканно стилизует наивную манеру и скрещивает ее с поп-артом, в результате чего рафинированная концепция видна невооруженным глазом. Соседство не вопиющее, даже элегантное, однако нетрудно догадаться, что произведения прочих экспонентов, так сказать, из другого теста.
Если Горшков играет в простоту, то наивисты в ней живут – неважно, с комфортом или в борениях.
Например, глядя на крашеные деревянные рельефы Алексея Пичугина, который обожал перелагать в 3D живописные сюжеты из Рубенса или Брюллова, отчетливо понимаешь: здесь нет ничего общего с постмодернизмом. Автор не просто не слышал такого слова, он еще и в мыслях не держал намерения трансформировать первоисточники для выражения собственных взглядов. Трансформация происходит сама собой, в силу одной лишь смены технологии и, разумеется, безыскусного авторского старания. Надо полагать, Пичугин хотел как лучше, а получилось еще лучше, чем хотелось. Тот самый случай, когда произведение выражает гораздо больше, чем художник в него вкладывал.
Это резюме касается и всех остальных, практически без исключений.
Наивист знает о себе, что талантлив, но едва ли осознает, в чем именно.
Зазор между изначальным замыслом и результатом, который посторонние зрители оценивают по каким-то неведомым автору критериям, и составляет, пожалуй, главную интригу самодеятельного искусства. Не имея представления об архетипах, такой художник пользуется ими без всякого стеснения, даже не отдавая в этом отчета. Высоколобой аудитории остается следить за «высшим пилотажем» и мысленно аплодировать. Недаром первыми поклонниками народного искусства были авангардисты. Реформу изобразительного языка они производили как раз с учетом стихийного фольклора. Во многом отсюда берет начало «безбашенная эклектика» ХХ века. Правда, авангардисты за минувшее столетие существенно эволюционировали, а художники-наивисты остались, по сути, прежними. Разве что с некоторой поправкой на изменившиеся реалии. Скажем, знаменитый Павел Леонов, ушедший из жизни менее полугода назад, свои представления об «утерянном рае» реализовал в якобы советских декорациях. Ну да, вместо града Китежа у него представлен невероятный, утопический колхоз со счастливыми пейзанами и лебедями в прудах на фоне белоснежных домов культуры. Чем безграничнее фантазия, тем суровее действительность, на которой все базируется.
Этот леоновский «коммунизм» в масштабах отдельно взятой деревни стоило бы воспринять в качестве сатиры на тоталитарную пропаганду, когда бы не все тот же образ «золотого века», кочующий из культуры в культуру и из тысячелетия в тысячелетие.
Своя версия «всеобщего благоденствия» есть и у Елены Волковой, изображающей льва в обнимку с зайчиком и скатерть-самобранку на берегу озера. Деревенский плотник Владимир Зазнобин выглядит чуть ли не эпическим типизатором, высекающим из бревен условные портреты односельчан. Тревожным элегизмом проникнуты пейзажи Любови Майковой. Крайне эзотеричны орнаментальные рисунки Василия Романенкова, откуда-то набравшегося символистской эстетики. И уж совсем «отвязными» представляются опусы Александра Лобанова. Что и неудивительно: этот человек, ныне покойный, больше половины жизни провел в ярославской «дурке». Его военизированный трэш удивительным образом перекликается с творчеством современных африканских и латиноамериканских художников, однако у Лобанова перед ними имелось явное эстетическое преимущество.
Он был настоящим, а не имитированным безумцем, поэтому в средствах выражения не стеснял себя ни на секунду.
Он ведать ничего не ведал о мировой художественной конъюнктуре и галерейной политике и рисовал ровно то, что возникало в его воображении. Визуального материала здесь наберется, пожалуй, на несколько психиатрических диссертаций, но для зрителя не из медицинской среды важнее соотнести эти произведения с практикой «нормальных» авторов. Хотя бы с целью выявить, для чего данная «норма» нужна и где именно она кончается... К слову, рисунки сумасшедших по-прежнему в моде на Западе, и наш Александр Лобанов имеет неплохие, пусть и посмертные, шансы пробиться в «элиту». Правда, говоря об «интеграции в международный арт-процесс», мы имели в виду, вероятно, что-то другое.

 Цивилизация
Цивилизация