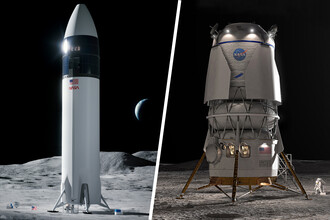Алехандро Иньярриту снял фильм, в котором главный герой — мелкий жулик-духовидец, крышующий китайских и африканских нелегалов, и заботливый отец (в исполнении Хавьера Бардема) — два с половиной часа мучительно умирает. В преддверии российской премьеры картины «Парк культуры» побеседовал с режиссером.
— Неизбежный вопрос о Барселоне: был тут недавно другой фильм о Барселоне с Хавьером Бардемом, очень солнечное кино Вуди Аллена (имеется в виду «Вики Кристина Барселона»), и всем сразу захотелось туда поехать. Вы же показали город, в который ехать не хочется совсем. Так задумано? Вы хотели показать того же актера в том же городе, но совсем другом?
— Нет, конечно. Испания была неизбежна: это кино было естественно снимать там. Хавьер тоже был неизбежен. У нас с ним общий язык, испанский. Он очень хороший актер... ну, вы понимаете. Что же до Барселоны… Несколько лет назад я там был — это был очень шокирующий опыт. В этом прекрасном городе, жемчужине Европы и всего первого мира, есть сотни тысяч людей разных национальностей, которые живут в ужасных условиях. Это очень интересный контекст. Не говорить о Барселоне, а сделать ее примером любого европейского города, в котором примерно одна и та же драма, на которую не принято обращать внимание.
— Как вы это изучали? Вы разговаривали с торговцами поддельных сумочек, видели китайские фабрики? Кино-то получилось невероятно достоверное…
— Конечно, я готовился. Я изучал африканские и китайские общины, разговаривал с людьми, ездил с полицейскими в рейды, смотрел, как они подавляют бунты. Большая часть снималась на натуре, в настоящих локациях, большая часть людей, которых вы видите в этом фильме, и правда рабочие, живущие в таких условиях.
— А вы не хотели снять документальный фильм об этих людях?
— На самом деле у меня есть материал для документального кино — наверное, я его выпущу на DVD, фильм о фильме, небольшая документалка. Пара вещей о людях, которые в самом деле там живут. Будет интересно.
— И все же главный герой этого фильма — смерть. Вы никогда не думали о том, что бы вы сами сделали, если бы вам оставалось несколько недель жизни?
— Это трудный вопрос. Это же состояние сознания, которое может случиться с вами в этот момент. Я попытался это изучить — вот почему я снял это кино. Это то, зачем в принципе существует искусство. Вы не можете пережить этот опыт, но кино позволяет прожить другую жизнь, выразить какие-то идеи. Но на самом деле, на личном уровне, если вы меня спросите, я не знаю. Это все равно что спросить, что бы я сделал, если бы мой дом горел. Я не знаю, я не почувствую этого, пока у меня не окажется достаточное количество нужного адреналина в крови, пока я не испытаю этот шок.
— Говорят, в Мексике есть особенное отношение к смерти, очень отличающееся от того, к которому мы привыкли. Ее гораздо меньше боятся: она как бы член семьи. Это правда, что она там гораздо ближе и гораздо меньше враг в мексиканской культуре?
— Я думаю, что в Мексике немного больше... наверное, тут об Америке надо говорить. Американцы испытывают танатофобию. Для них смерть — это сила, которой не должно быть, смерть нужно отменить. А мы в Мексике просто понимаем, что она неизбежна. Мы интегрируем смерть в нашу повседневную жизнь. И мне кажется, счастье без этого невозможно. Ты не принимаешь жизнь за должное, ты не испытываешь этой детской иллюзии, что жизнь будет продолжаться вечно, ты понимаешь, что ты тут временно. Тогда ты гораздо ближе к счастью — вопреки тому, что думают американцы. Я думаю, кстати, что мы, мексиканцы, этим очень близки к русским. Драматические силы, которые управляют нами, очень близки. В русской литературе очень много вот этого вот драматического восприятия смерти. Эта интенсивность приближает русскую культуру к мексиканской гораздо сильнее, чем к американской или европейской.
— Наверное, но мы все же так боимся смерти! Мы все же гораздо ближе к Америке в этом. Мы в ужасе от нее.
— Ну, конечно, никому не хочется умирать. Жизнь прекрасна. Но так же верно, что... я, конечно, не знаю русских, как я знаю американцев, но по крайней мере я знаю русских режиссеров, таких как Сокуров или Тарковский, русскую литературу — русские ближе к реальности, чем американцы.
— Последний вопрос: вы не хотели бы снять какое-нибудь грандиозное кино, что-нибудь из популярной культуры, я не знаю, адаптировать комикс? Или это что-то, чего вам никогда не захочется?
— Я думаю, это было бы трудно. Я очень серьезно отношусь к своим фильмам: это способ проявить себя. У меня нет вот этой комиксовой ментальности. Конечно, я любил Супермена, когда был маленьким, но я с тех пор слегка вырос — мне уже 47 лет. Я не знаю. Мне хотелось бы исследовать нечто большее, чем комикс. Понимаете, эра комиксов кончилась. Они очень успешные, но это не значит, что они хорошие. Это как гамбургер из «Макдоналдса». Они хорошо продаются, но это же дерьмо. Так что я не хотел бы истратить жизнь на какую-то дерьмовую идею просто ради того, чтобы продать больше бургеров. Вряд ли мне хотелось бы этого. Я бы с удовольствием сделал что-то мейнстримовое: я не против того, чтобы мои фильмы смотрело множество людей. Но это должно быть что-то, в чем есть смысл для меня.

 Цивилизация
Цивилизация