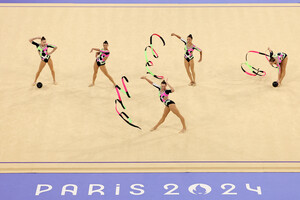О русском авангарде известно, казалось бы, всё и в подробностях: кто, что, как и почему создавал. Написаны сотни исследований, опубликованы горы мемуарной литературы, устроены многочисленные выставки не только «главных действующих лиц», но и художников, имевших к тому феномену хотя бы косвенное касательство. И вдруг выясняется, что нынешняя экспозиция Владимира Стерлигова – это его первый персональный показ. Во всяком случае, первая объемная ретроспектива.
Имя автора известно, а вот работы его, особенно живьем и в большом количестве, мало кто видел.
Одно из объяснений эдакой странности напрашивается само собой. Художественное наследие Стерлигова практически целиком состоит из произведений 1940–70-х годов. То бишь относится ко временам, когда начинала заходить речь уже о «втором авангарде», об оттепельных выплесках креативности. В ту пору стали появляться новые лидеры и собственные приоритеты, а Стерлигов принадлежал к «старой школе» авангарда. Все его ранние работы сгинули в пору ленинградской блокады, из прежних единомышленников и друзей выжили немногие. За плечами самого Стерлигова были и годы казахстанских лагерей (разумеется, по обвинению в «антисоветской деятельности»), и тяжелая контузия на фронте, и трудные попытки заработать на жизнь хоть какими-то художественными заказами. Словом, ничто не предвещало, что у этого автора может случиться творческий ренессанс – и долгое время впоследствии к его поздним работам относились без особого пиетета. Одно дело – Филонов, Малевич, Матюшин и прочие мэтры «первого авангарда», а Владимир Стерлигов вроде как запоздал со своими прозрениями, которые пришлись на совсем другую эпоху.
Отчасти так и есть: запоздал, конечно.
Для его младших современников авангард был запретной легендой, годившейся в качестве трамплина к собственным дерзаниям, большей частью с прошлым не связанным. А Стерлигов бесконечно рефлексировал по поводу прежних, времен ГИНХУКа и ученичества у Малевича, проблем формы и содержания. Можно сказать, его многолетняя эволюция противоречила самому авангардному принципу «пришел, увидел, победил». Если представитель «передового отряда искусства» десятки лет маневрирует на одном и том же пятачке, вместо того чтобы рваться в неведомую даль, – так он, возможно, и не авангардист вовсе?
Пожалуй, пример этого художника как раз и должен бы наводить на мысль, что любые резкие новации в искусстве чреваты «синдромом послевкусия».
Обязательно найдутся те, кто не удовольствуется первыми результатами экспериментов и захочет докопаться до истинной сути предпринятой «эстетической революции». Что, разумеется, может вести к занудству, графомании, комплексу превосходства над окружающими, неоправданному ревизионизму и т. п. Но может дать и неожиданно мощный эффект: вспомните, как удалось отшельнику Сезанну переосмыслить достижения своих приятелей-импрессионистов. Судя по всему, Владимир Стерлигов (вне зависимости от его успехов) относился именно к этой породе «продолжателей-ревизионистов».
Заголовок выставки «И после квадрата я поставил чашу...» недвусмысленно намекает на мысленную полемику с Малевичем, служившую для Стерлигова чем-то вроде стимулятора творческой активности. Этой фразой автор утверждал свою «чашно-купольную систему», выработанную им на склоне лет. Меж тем предыстория вопроса уходила во времена его юности, когда Казимир Малевич отстаивал важность прямой линии, а оппоненты вроде Михаила Матюшина твердили про «кривую», «расширенное смотрение» и т. п.
Не вдаваясь в теоретические подробности, можно сказать, что былая проблематика модернизма воскресла в «оттепельных» произведениях Стерлигова, да еще и сопряглась с его религиозными воззрениями.
Небольшого формата холсты и работы на бумаге должны были зафиксировать для вечности новые эстетические открытия. Именно так их и следует сегодня воспринимать, чтобы не промахнуться со своими зрительскими ощущениями. Искать здесь отвлеченную «красоту» не особенно продуктивно (хотя найти ее нетрудно). В основном это визуальные манифесты «купольно-чашной» веры, в которую художник пытался обратить для начала хотя бы своих учеников.
Портреты, пейзажи, натюрморты Стерлигова строились не абы как, а в соответствии с его пластической теорией.
Он словно заново проектировал небо и землю, предлагая свою версию зримой реальности. Иногда даже декларировал эти постулаты прямо внутри изображений. Например, на выставке можно встретить графический лист с надписью: «Мы все живем внутри купола»... Неудивительно, что в ряде опусов заметна мысленная дискуссия не только с Малевичем, но и с Пикассо – еще одним великим реформатором искусства. Похоже на то, что Владимир Стерлигов полагал свою изобразительную систему не менее важной для человечества, чем кубизм и супрематизм. Увы, амбициям не суждено было реализоваться. И дело даже не в том, верна ли хоть отчасти была его теория или целиком ошибочна. Просто закончилось время «больших идей». Стерлигов оказался одним из последних, кто пытался мыслить космическими масштабами. Так что загляните при случае на его выставку – если не насладиться произведениями, то оценить замах.

 Цивилизация
Цивилизация