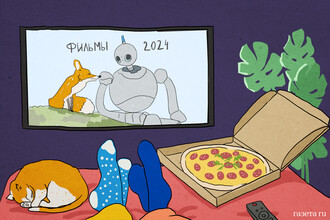Опережая вопросы, Василий Павлович сам все объяснил в авторском предисловии. Подобно Валентину Катаеву, в своем документальном романе он отгородился от мемуарного жанра. Создавал не клоны и копии реальных людей, а их художественные воплощения. Вот и переиначил всю гвардию шестидесятников именами новыми, но созвучными.
Прием, использованный мэтром в собственной прозе 80-х, когда-то объединял автора и читателя в преодолении запретного, например воротилы Союза писателей в «Скажи изюм» были выведены под именами Фарков и Фисаев. Читали. Узнавали Маркова и Исаева. Смеялись, шли дальше.
В «Таинственной страсти» та же игра в узнавание разделяет — автора с читателем, персонаж с прототипом.
Потому что Аксенову она была необходима для создания художественных образов. А читателю от этого только лишняя головная боль. Образы образами, но ведь без своих прототипов герои эти бледны и несущественны. Вот и приходится продираться через всех этих Кукушей Октав, Владов Вертикаловых, Янов Тушинских, Андреотисов, Нэлл Аххо к Высоцкому, Окуджаве, Евтушенко… Процесс, надо сказать, утомительный. А тут еще издатель щедро снабдил книгу снимками. И едва начинаешь верить, что Кукуш Октава или Нэлла Аххо сами по себе художественная правда, открываются фото того и другой в виде Окуджавы и Ахмадулиной.
О себе Аксенов повествует в третьем лице. Называется – Ваксон.
Коктебельские пляжи 1968 года – центр романа и его времени. Вся компания Кукушей, Нэлл, Андриотисов и прочих пьет тут «Бело мяцне» из трехлитровых банок, спит друг с другом, читает стихи и поет. И поодиночке, парами и группами совершают с этих пляжей, где все они пока близки и понимают друг друга, виртуальные набеги то в Манеж под разгром к Хрущеву, то в Свердловский зал на встречу писателей с членами Политбюро, то в семидесятые и начало еврейской эмиграции. То в Нью-Йорк, то в Париж, то во времена создания «Метрополя».
Персонажи и прототипы в постоянной борьбе.
Иногда прототип одерживает победу, и за маской Яна Тушинского отчетливо проступают черты Евгения Евтушенко, ловкого и беспринципного фрондера, не вылезающего из заграниц и способного запросто бросить всю компанию, ввязавшуюся в драку с какими-то грузинами на улице Горького. Влад же Вертикалов так весь роман и не становится Высоцким. Даже на собственных похоронах. А в сцене всеобщего Коктебельского пиршества, отчетливо напоминающей вокзальное застолье из «Как жаль, что вас с нами не было», Евтушенки и Рождественские вообще линяют куда-то, и перед нами загуливает самая обычная интеллигентская компания с вычурными кличками без выраженных временных и эпохальных черт. Делают они все то же, что делали подобные компании на пляжах от Евпатории до Гагр с 60-х по начало 90-х – пьют, любятся, читают стихи, поют песни Окуджавы и Высоцкого.
Шестидесятники растекаются во времени и пространстве почти на сорок лет и до полной неопределенности.
Чему в немалой степени способствует куда-то исчезнувший из романа образ и чувство Великого Послесталинского Страха, без которого само существование шестидесятников теряет достоверность и смысл.
Неизвестно, почему это произошло, и как его можно было потерять — время ли тому виной, поменявшее старые страхи на новые. Но много раз описанное в литературе самим Василием Павловичем (и оттого при многочисленных повторах выдохшееся), чувство Страха либо совсем не возникает при чтении романа, либо настолько слабо, что многие поступки героев становятся абсолютно необъяснимы. И когда Хрущев обрушивается с трибуны на Антона Андреотиса (Андрея Вознесенского) — и тот немеет, бледнеет и спасается в панике только чтением собственный стихов, и потом бежит отсиживаться к физикам в Дубну – в отсутствие и тени Великого Страха, поведение и состояние героя вызывает некоторое недоумение.
Нет Страха. Не с чем бороться в себе.
Не для чего браться за руки друзьям в противостоянии тени безумного султана. Дружба как оплот шестидесятничества оказывается вовсе не такой уж необходимой, надежной и твердокаменной. И хотя Ваксон-Аксенов не раз вздохнет о том коктебельном братстве лета 68-ого, которое с годами было многими разменяно и потеряно ради карьеры и успеха, само существование этого братства в шестидесятые кажется уже каким-то сомнительным.
Верность и непредательство из мощного этического мифа распадается на отдельные и вовсе не такие надежные дружбы, приязни и непонимания.
Шестидесятники у Аксенова иногда помогают и поддерживают друг друга. Иногда молча отходят в сторону, сдавая своих. Одни из них решаются на отчаянные шаги. Другие вовремя останавливаются. Нет ничего обобщенного и раз и навсегда заданного. Нет разоблачения известных всем и не раз уже разоблаченных или оставшихся с безукоризненной репутацией.
И новые, хоть и крикливые имена, кажется, даны шестидесятникам не столько для создания художественной реальности, сколько чтобы уйти от забронзовевших образов и показать, какими они были обычными в общем-то людьми.
Кто посильнее, кто послабее. Кто и вовсе никуда не годен. И вне всякого творчества, которое, несмотря на обилие стихотворных цитат, у героев последней книги Аксенова как-то по большей части никак не проявляется.
И все же, если перебрать то, что написано героями романа о том времени и о самих себе — эгоцентрическая ли лирика в прозе Нэллы Аххо, записки вокруг себя и своих стихов Антона Андреотиса, сборник ли собственной гражданской публицистики под заголовком «Шестидесантник» Яна Тушинского, роман Ваксона, кажется, к тем годам, людям и той жизни будет куда как ближе.
Если, конечно, не считать автобиографической прозы Булата Шалвовича, в которой тоже как нарочно вместо известного и любимого барда-шестидесятника действует, хоть и вполне узнаваемый, но все-таки даже несозвучный с ним по имени Отар Отарыч.
Василий Аксенов. Таинственная страсть (роман о шестидесятниках). М., «Семь дней», 2009.

 Цивилизация
Цивилизация