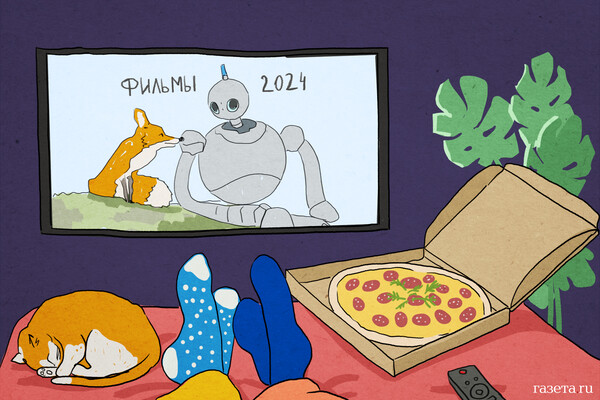«Диковатый народец». Такими словами фельдшер (Андрей Панин), может, и не встречает приехавшего работать под Углич молодого очкарика доктора Полякова (Леонид Бичевин), но произносит их вскоре после знакомства. «Другие они, доктор». Другие значит живучие — не помрут, даже когда угодят в мялку. Темные — подвешивают беременную за ноги, чтобы плод принял правильное положение, а во время родов выманивают младенца сахаром. Глупые — дойдут до больницы, только когда ушибленная рука уже почернела.
Диковатый. Народец.
Эта интонация с примесью легкой брезгливости могла бы охарактеризовать режиссерское отношение к человечеству и стать идеальным слоганом к половине балабановских фильмов.
Давно (вспомнить хотя бы «Про уродов и людей») Балабанов копается в упадке и разложении, только в последнее время абстрактная история патологии обретает конкретные место и время, обрастая усиливающей метафору физиологичностью. Советский Союз — гниющий труп и мухи. Революционная Россия — разорванная в клочья нога, обгоревшие тела и доктор Поляков, которого столь регулярно тошнит — то ли от морфия, то ли от жизни, что возникает искушение вспомнить лингвистический анекдот про «неудержимо рвало на родину».
1917 год, из Москвы идут неясные слухи, фельдшер из соседского уезда — член РСДРП, а местная знать совсем не чувствует беды — хохочет, пьет шампанское и радостно зовет молодого доктора поучаствовать в дискуссии о революции. Древнерусская тоска, Вертинский, простодушные крестьяне, все еще предпочитающие знахарей врачам, Поляков, который в отличие от героя Булгакова, страдавшего по бросившей его возлюбленной, становится морфинистом от томления непонятной этиологии, — «Морфий» неуловимо напоминает одновременно «Вишневый сад», «Бесов» и «На ножах».
В каком-то смысле «Морфий» — приквел «Груза-200». Он про то прошлое, из которого выросли советская действительность и Журов.
И, когда актеры Полуян и Бичевин, оба игравшие в «Грузе», встречаются в кадре, это посильнее, чем ампутация и трахеотомия: они, кажется, не просто частные герои, а архетипы, которые перерождаются, занимая новое место в новой эпохе.
Бодров склеил сценарий из «Записок юного врача» и «Морфия», двух разных сюжетов — бытия морфиниста и эпизодов из практики уездного врача. Балабанов ушел от Булгакова еще дальше. Этот фильм, в котором каждый отдельный кадр столь совершенен, что мог бы претендовать на премию в области киноискусства, то превращается в фарс, то в назидание, то в драму самопожертвования, то падения, вытаскивая на поверхность самое мерзкое и болезненное. Теперь, после «Морфия», стало очевидно, кого на самом деле следует экранизировать Балабанову. Конечно, Достоевского. Шутка про попахивающие мощи старца Зосимы очень в балабановском духе.

 Цивилизация
Цивилизация