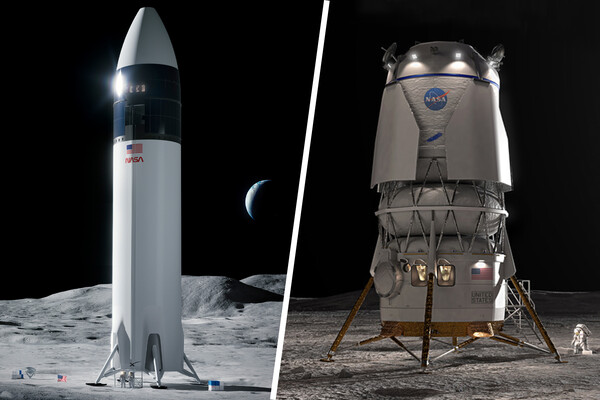Весь год о Вишневской говорили в СМИ – слишком много случилось событий, так или иначе связанных с ней – смерть Ростроповича, продажа коллекции, блестящий актерский дебют певицы в «Александре» у Сокурова. Недавно Галина Павловна была удостоена Почетного звания «Сталкер» на одноименном кинофестивале — «Зa гражданскую позицию, принципиальность и вклад в развитие искусства», стала Почетным доктором Московского университета. Но главное для Вишневской – юбилей Центра оперного пения, который ее усилиями открылся в Москве пять лет назад.
— Галина Павловна, в вашем Центре учатся выпускники консерваторий. Чего не оперный певец не получает в консерватории?
— В Центре ведется другая работа. У меня учатся тридцать пять человек. С ними работают шесть педагогов по вокалу. Десять концертмейстеров. Дирижер. На спектакли приглашаем режиссеров. У нас преподают три языка. Есть урок дикции — больше такого нет нигде. И у нас есть сцена. И оркестровая яма — мы приглашаем оркестр, и репетируй, сколько хочешь. Хоть ночью репетируй, потому что мы ни от кого не зависим. В «Царской невесте», «Руслане и Людмиле», «Фаусте», «Риголетто», «Иоланте» студенты выходят в первых партиях. А в театре кто их возьмет на первые партии? И кто с ними будет работать? Там задачи другие. Там надо продукт выдавать — петь. А здесь они учатся петь в театре.
У нас всегда полный зал и есть своя публика. Но считаю неправильным то, что к нам относятся, как к театру, забывая, что мы – учебное заведение. У этого места другое назначение. Не делать какие-то открытия в искусстве постановки оперы, а, прежде всего, научить петь и держать себя на сцене. Первый год студенты «освобождают» голос и учат репертуар. Только на второй год выходят на сцену. Потом – уходят, приходят новые. У нас артист не растет постепенно десять лет, как это происходит в театре. Я вижу, что двух лет не хватает. Мы сейчас думаем продлить срок обучения до трех лет.
— А бывают ли нерадивые оперные студенты?
— Бывают. Бывает, что отчисляем, даже с хорошим голосом.
— Чего не хватает?
— Головы.
— В смысле: трудолюбия?
— Нельзя научить, можно научиться. Не только педагог вам должен дать. Я всем даю одно и тоже, один берет, другой – нет. Голос – это ведь еще и эстетическое ощущение в себе. У нас же перед глазами нет клавиатуры или смычка. У нас все в себе. Кто как себя ощущает, кто как себя слышит. Кто какие цели себе поставил в жизни.
— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние оперы в России и в мире?
— Режиссеры сознательно убивают оперный театр. Вот и вся характеристика. И театральные режиссеры, и те, кто имеет музыкальное образование. Режиссеры лишают оперное искусство того, для чего оно предназначено. Опера – это пение и ничего больше. Никогда из этого не возникнет драматического театра, и не надо пытаться. Хотите смотреть драму – идите в драму. А здесь люди поют! Если в драме режиссер может по своему усмотрению делать паузы, менять темп и так далее, то в опере все написано! Вот поет Гремин пять-десять минут «Любви-и-и-и все во-о-зрасты поко-о-рны» — тянет бесконечно – может быть, это кому-то скучно, но так написано гением! Не ходите в оперный театр, если он вам не нравится! Это сделано не для вас и не вами. Почему Моне Лизе никто не пытается чего-нибудь пририсовать? Может, вариант Леонардо да Винчи сегодня кому-то надоел, так давайте пририсуем ей бороду! Вот в Германии поставили «Риголетто» из жизни обезьян. Джильда поет вся в шерсти. А Бадри Майсурадзе в барселонской постановке «Бала-маскарада» Верди должен был исполнять свою арию, сидя на унитазе, – отказался. Таких режиссеров надо возле оперных театров поджидать с автоматами. Кроме того, дирижеры сегодня в оперных театрах — для симфонических оркестров; они не знают, что такое работать с певцом. Выучил партию — и на сцену. А ведь выучить партию — даже не первая буква в алфавите.
— А чем отличается оперный дирижер?
— Дирижер, работающий в опере, должен понимать человеческий голос, должен знать, как работать с оперным певцом. Не учить партию — учит концертмейстер. А работать над фразой, создавать музыкальный образ. Из месяца в месяц, из года в год, как было раньше. Тосканини, Серафин, Гвацени занимались только оперой, другого даже не дирижировали. Когда я пришла в театр в 52–53-ем годах, главными дирижерами были Голованов, Мелик-Пашаев, Небольсин, Хайкин, Кондрашин, Жуков — одновременно! И работали только в Большом театре. Может быть, раз в год дирижировали симфоническими оркестрами на радио. И все! Все время свое они отдавали театру, и поэтому были певцы. Певца может вырастить только дирижер, общение с ним изо дня в день. И в это же время пришли стажерами Светланов и Рождественский. Потом, когда они поуходили, в один прекрасный день главным дирижером Большого был назначен Симонов — прямо из консерватории, первое место его работы. Он не знал даже оперной литературы. За него, видно, кто-то ворожил из ЦК партии.
— Мстислав Леопольдович разделял ваши взгляды на оперу?
— Разделял. Он был категорически против того, чтоб калечили спектакли. Чтобы действие переносили в другую эпоху и т. д. Это преступление – одеть персонажей «Аиды» в камуфляж. Я называю это мародерством на поле боя: снимай сапоги, пока теплый еще! Вот Фокин недавно поставил в Большом «Пиковую даму» — мне понравился спектакль. Вы чувствуете аромат Петербурга. Есть вещи, которые я бы еще доделала, ошибки, совершенные по причине оперной неопытности постановщика, у которого это был первый оперный спектакль. В каких-то местах я бы не уводила певцов так далеко от дирижера. На ярус поставила бы второстепенных персонажей, а главных спустила бы вниз. Очень трудно получить контакт, единение между дирижером и исполнителем, который стоит так высоко. Надо просто знать жанр, чтобы чувствовать такие детали.
— Почему вы доверили постановку последней премьеры Центра — «Евгения Онегина» — балетному человеку Андрису Лиепе?
— Мне хотелось, чтобы он показал певцам, что такое элегантность, показал эпоху, научил манерам. Что касается режиссуры, то я скажу вам ужасную вещь: в «Онегине» у Пушкина настолько все ясно, что чем меньше занимаешься постановкой, тем лучше. Вот сидит Татьяна, пишет письмо – пусть пишет! «Татьяна то вздохнет, то охнет, письмо дрожит в ее руке, облатка розовая сохнет на воспаленном языке». Или «Княгиня перед ним одна сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает и тихо слезы льет» — вот читай письмо, плачь и пой! Никаких новаторских приемов я в «Онегине» не собиралась применять. Классический спектакль, Пушкин — Чайковский, не морочьте никому голову, дайте людям петь и быть персонажами!
— Если бы вас назначили Министром Оперы, что бы вы сделали для оперы?
— Я бы позакрывала многие театры. Потому что наполнить большое количество театров достойными певцами определенного профессионального уровня невозможно. В Германии почти в каждой деревне есть свой оперный театр. Там поет молодежь, которая ничего еще не умеет, через год-два срывает голос и уходит со сцены. Им на смену приходят другие такие же. А откуда возьмется столько хороших голосов?
— Недавно состоялся ваш дебют в кино — в фильме Сокурова «Александра». Кто-то пишет, что вы сыграли обобщающий образ матери, кому-то кажется, что образ довольно нетипичный, образ самой Вишневской…
— Образ обобщающий, монументальный. В моем представлении: вот идет женщина по земле – женщина, породившая весь мир. Для нее все – дети – чеченец, русский, француз. Она всех родила – женщина, без нее еще не родился ни один человек. Те, кого она породила, что еще они натворят на земле? Здесь, в Чечне, они уже перемолотили полгорода. Что будет дальше?
— А вы себя чувствуете такой женщиной?
— Да! Мне кажется, любая женщина чувствует себя такой, если у нее есть дети – это очень важно иметь ощущение матери. Женщина, выносившая весь мир…
— Как вы думаете, почему вам дали роль бабушки, а не матери?
— Так Сокуров написал. Специально для меня. Этот седой парик настолько меняет внешность! Платье-балахон, сандалии с носочками и авоська в руке. Когда я увидела себя такую в зеркале, в первый момент даже оглянулась – не стоит ли где-то рядом та старая тетка, что отражается в зеркале? Сначала пыталась скулить: «Можно другую прическу?», но через несколько дней привыкла.
— А вам бы хотелось воспитывать именно сына?
— Хотелось бы. Но судьба так решила, что моего сына не стало, когда ему было два с половиной месяца, а после него родились две дочери. Если бы был жив сын, неизвестно, как бы повернулась моя судьба, может быть, я бы осталась с прежним мужем.
— Вы бы позволили сыну пойти воевать в Афганистане или Чечне?
— Очень просто было бы сказать: да. Не знаю. В России в прежние времена мальчик только рождался — и уже был приписан к полку. С детских лет он уже знал, что он – мужчина. И это я приветствую. Если не мужчина, то кто же должен защищать женщин, стариков, детей? Не прятать же сына! Одно могу вам сказать: не могу себе представить, чтобы я позволила сыну цепляться за мою юбку.
— Вы интересовались судьбой вашей с Ростроповичем коллекции русской живописи после ее продажи?
— Она куплена русским бизнесменом Усмановым, что с ней стало – не знаю, поскольку с ним не знакома.
— Дело всей жизни продается человеку, которому небезразлично, куда попадет коллекция, и это не стало поводом для знакомства?
— Не стало. Коллекцию я продала через Сотбис. Кое-что все же оставила себе. Средства, вырученные за коллекцию, идут на жизнь семьи, у меня ведь шестеро внуков, и на поддержание нескольких наших фондов. Продолжает существовать медицинский Фонд, который возглавила моя младшая дочь Елена. Я недавно была с этим фондом в Грузии, Азербайджане и Армении — делали прививки от краснухи, кори, гепатита. В России мы сделали более двух с половиной миллионов этих прививок. А Фонд помощи молодым музыкантам возглавила моя старшая дочь Ольга. Последней его акцией стал первый фестиваль имени Ростроповича, с большим успехом прошедший в декабре в Баку, на его родине. Там выступили Башмет с оркестром, Сергей Крылов, Сергей Лейферкус, Хибла Гирзмава, Елена Манистина.
— Прошло более полугода после ухода Мстислава Леопольдовича. Что острее ощущается – отсутствие рядом гения, определявшего атмосферу вокруг вас, или потеря близкого человека?
— У нас была совершенно нормальная жизнь – никакого гениального ни с какой гениальной. С самого начала и до самого конца в нашей совместной жизни мы были просто мужчиной и женщиной. А в искусстве мы были абсолютными единомышленниками. Для меня он не умер. Я до сих пор не знаю, что его нет. Он уехал на гастроли. Но скоро вернется. Его смерть была для меня совершенно неожиданной. Мне казалось, что он никогда не умрет. Однажды, придя на кладбище, я просто прошла мимо его могилы. Иду, и совершенно забыла: зачем я на кладбище пришла? У меня нет отношения к нему, как к мертвому.
— Остались ли у Мстислава Леопольдовича какие-то неопубликованные записки?
— Увы, нет. Пока мы ничего не обнаружили. Есть, конечно, масса архивных документов, писем. С этим разбирается наш секретарь. Работа на несколько лет. Но никаких воспоминаний Ростропович не писал. Я пыталась заставить его написать книгу. Покупала ему диктофон, какие-то приспособления, чтобы он хотя бы наговаривал. Ничего не вышло. Все некогда и некогда. А ведь сколько он мог рассказать о Прокофьеве, о Шостаковиче, с которыми дружил! Историй, свидетелями которых был, рассказывал повсюду много, но ничего не записал.
— Вы в Россию вернулись насовсем?
— Мои дети живут за границей. И внуки живут там. Но в России моя работа, мой оперный Центр, и здесь я провожу больше времени. Хотя у меня нет российского паспорта, я его в свое время не взяла. У меня швейцарский паспорт, у Славы тоже был швейцарский паспорт.
— То есть ушел из жизни гражданин Швейцарии?
— Даже не Швейцарии. У нас же паспорта – для иностранцев. Ростропович был по паспорту апатридом, а на самом деле – Великим Гражданином России.
— Галина Павловна, что вы умеете делать, кроме пения?
— Я все умею. У меня такой характер, что я никому не позволю себе стул пододвинуть — все стараюсь делать сама.

 Цивилизация
Цивилизация