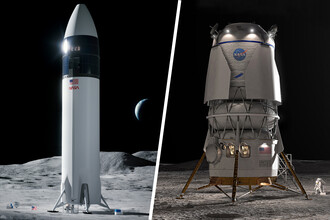Закрылся фестиваль Нового европейского театра, показав в эти выходные два ударных и категорически противоположных друг другу спектакля.
Отечественный удар наносила режиссер Живиле Монтвилайте, известная своими шумно раскрученными постановками вроде прошлогодней «Э-федры» в саду «Эрмитаж». На этот раз шуму было не меньше, причем главным поводом для него было то, что представление «Shlem.com» считалось очередным этапом пелевинского проекта, наверченного вокруг его нового романа «Шлем ужаса». Пиар возвещал: ««Shlem.com» — это новый продукт, идея которого возникла в результате длительного эксперимента под названием «Творчество Монтвилайте». Театр Монтвилайте — это выход за рамки двухмерной плоскости классического театра, своего рода конструктор, ребус, паззл и т. д.». Плюс к этому – участие недавно прославившихся сериально-киношных молодых актеров (вроде Мамадакова и Смольянинова прямо из «9 роты» или Великановой из «Попсы»), да еще известной алтайской певицы Тандалай, да еще всеми любимого перформера Андрея Бартенева…
Монтвилайте умеет притягивать к себе известных персонажей, особенно нетеатральных.
Главной приманкой спектакля был интерактив – объявили, что перед креслами в зале будут установлены компьютеры и зрители, глядя представление, смогут одновременно в нем участвовать, разворачивая свой вариант действия на экране.
Впрочем, «местных» компьютеров в зале было немного – за них, как я понимаю, предлагалось платить отдельные деньги, но кто хотел – мог принести ноутбук с собой. В результате на первом представлении заботливо проведенная локальная сеть не работала и разрекламированным интерактивом смогли пользоваться только те, у кого в ноутбуках был Wi-Fi. Те же, кто остался без техники, вынуждены были смотреть на сцену, а смотреть там было, в сущности, не на что. За рядами тюля, на котором едва видно бежал текст чата из пелевинского романа, в кабинках сидели герои. В тот момент, когда они выходили на авансцену с репликами, играли все (что профессионалы, что дилетанты) одинаково ужасающе. А главное – решительно невозможно было понять, в чем, собственно дело, что это за люди и о каком шлеме они так утомительно и многозначительно толкуют.
Тем, кто подключился к «Шлему», было повеселее, хотя из всех заявленных возможностей работал только зрительский чат. Народ во всех углах зала и на балконе обсуждал что угодно, только не спектакль. Разве что кто-то иногда спросит: «А это кто?» — «Говорят, певица какая-то знаменитая». Сосед мой очень волновался, не поднимая головы от ноутбука: «Говорят, в чате сам Пелевин! Не знаешь, под каким ником?» Но самой увлекательной для зрителей была именно обычная чатовская болтовня, но в парадоксальной ситуации, когда все сидят не по квартирам, а в одном темном зале и кто где, угадать невозможно, хотя ясно, что рядом. Послания неслись подряд: «Bы где?» — «Mы на балконе». – «A это не вы там на первом ряду на сцену компы поставили?» – «A давайте мы к вам?» — «Устроим флеш-моб: раз-два-три – подняли руки!» И впрямь, гляжу – в разных углах зала поднимаются руки.
Мудрый итог был подведен все в том же чате: «Mожет, уйдем и придем в другой раз, когда все будет работать?» – «B другой раз работать будет, но модно уже не будет».
Зато настоящим мощным финалом NETа был спектакль берлинского «Дойчес театра» — трагедия Лессинга «Эмилия Галотти». Постановка Михаэля Тальхаймера, объехавшая уже все престижные европейские фестивали, была самым дорогим мероприятием NETа, но и самым на вид простым и лаконичным. Трудно себе представить что-нибудь более противоположное «Шлему», чем вот эта пустая сцена: высокие стены, раструбом расширяющееся к залу, маленькая дверь в глубине и ни одного предмета. Только по дорожке от двери к залу и обратно, словно манекенщицы по «языку», под снова и снова повторяющийся вальс из карваевского «Любовного настроения» идут персонажи. И эта дорожка становится метафорой их судьбы, как жизнь, где нельзя ни разминуться, ни задержаться и каждая встреча неотвратима, как рок. В сущности, это почти балет, где жест значит куда больше, чем слова. Текста совсем мало. Длиннющая патетическая пьеса эпохи Просвещения об отце, убившем дочь, ставшую объектом преступной страсти принца, превращена в молчаливый спектакль, длящийся чуть больше часа. Но в тот момент, когда герои говорят, они тарахтят в страшном темпе, будто пытаясь поскорее избавиться от ненужных слов, которые отвлекают и мешают главному – любить.
Стриженая молоденькая Эмилия Галотти, похожая на Твигги — с такими же острыми плечами и огромными глазами, смотрит нездешним взглядом поверх голов, будто слепая. Она идет по дорожке, словно воплощение недостижимой мечты, и молодых мужчин, встречающих ее — что невысокого неуклюжего принца, что стройного красавца графа, — мгновенно сбивает с ног любовь, как сердечная боль. Любовь выглядит почти вещественной — принц коснулся лица Эмилии, и с тех пор его левая рука будто носит отражение девушки, полна ею, он все время с выражением муки вглядывается в нее, проводит по своему лицу, груди, носит осторожно, на отлете, как что-то хрупкое. Еще раз встретив, он протягивает Эмилии эту руку, предъявляя ее невольный подарок, будто свидетельство, но она, не глядя, проходит мимо, сквозь него. А принц с этой вытянутой рукой так и остается на месте, продолжая что-то торопливо беззвучно бормотать, объяснять, доказывать.
Вот так всегда бывает: только нашел слова, а ее уже нет.
Любовь — это мучение, болезнь. Эмилия идет решительно к принцу – он пятится, протягивает умоляюще руки, рушится почти без чувств и ползет к ней, будто отказали ноги. Она уходит — он раздирает рубашку на груди и бьет себя в голую грудь, где сердце, стремясь его унять.
Любовь материальна, она, будто плотная, как скафандр, аура защищает Эмилию: ни один из влюбленных не может обнять девушку – только с лицом, искаженным любовью, как долгожданной болью, они на расстоянии обводят ее абрис руками. Любовь как что-то вещественное, как излучение, как волна. Каждый пойман своей частотой – той, что входит в резонанс именно с ним.
В этом спектакле все чрезмерно и остро. По чистоте и ясности мысли, по какой-то выверенной точности и силе он похож удар. Или выстрел. И того финала, какой задумал Лессинг, когда Эмилия просит отца убить ее, чтобы спасти от бесчестья, здесь нет. В конце концов, не все ли равно, умер ты или нет (тут, будто перефразируя цитату из «Трех сестер», принц говорит про убитого соперника: «Одним графом больше – одним меньше…»). Дело не в жизни. Дело в любви.

 Цивилизация
Цивилизация