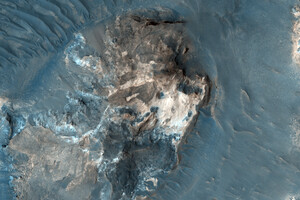Рос я ребенком странным, до седьмого класса включительно, поэтому иногда на биологии, когда нам Наталья Владимировна (впрочем, не уверен, что ее так звали, я же говорю: рос странным) задавала небольшое сочинение на тему, как рыбка превратилась в птичку, – я, сперва, написав три осмысленных абзаца, потом начинал писать бессмысленные каракули, имитируя буквы.
Сейчас, повторюсь, уже и не вспомнить: Наталья Владимировна ли, или Зоя Николаевна, в седьмом ли классе, а может, в девятом (тогда какой ребенок?), на биологии ли, а может, зоологии все-таки – ведь тогда же изучают превращение рыбки в птичку?
Но все это на самом деле неважно.
Важно, что я был уверен: мерцающая теперь в имени-отчестве Зоя Владимировна сочинение не читает (ну не урок же русского?), и всегда ошибался. Переливчатая Наталья Николаевна подчеркивала волнистой чертой все мои кракозябры и ставила мне «два».
...Уже в восемь лет другой мальчик был уверен, что станет писателем. И тоже, как и я, правда, по другой причине (у него был ужасный почерк, и он его стеснялся), усердно заполнял листы бумаги волнистыми линиями, имитируя рукопись.
Как же он раздражал учителей. Родителей. И особенно отца.
«Из тебя ничего не выйдет». (Мне, кстати, тоже так говорили. И не ошиблись.)
Но мои родители хоть не доходили до того, до чего в своем гневе доходила мать мальчика. «Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают жизнь самоубийством».
Ну вот как, как такое можно сказать ребенку, сыну?
Хотя и сам Евгений Шварц покаянно потом вспоминал в дневнике (тема дневника еще возникнет несколько раз – причем один раз самым удивительным образом): «Жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не простовато, несамостоятельно, глупо».
Как хорошо сказано: «Жил я сложно, а говорил и писал глупо».
Жизнь пытается пробиться сквозь нас, через наши незамысловатые, заимствованные слова, через наш личный, никому не интересный биографический мусор, просит: «Дай мне себя проговорить!». Но настоящий писатель и начинается тогда, когда понимает, что не он должен говорить, а жизнь. Что нет смысла заниматься самовыражением (ты кто такой? что там в тебе выражать?), надо просто дать через тебя говорить общей драконьей и ангельской сущности. Глупой, сложной, способной перейти из рыбки в птичку, многовариантной, цветной. Дракону-птенчику.
...Вообще странный был человек.
Неуверенный и измученный мелочами быта, Евгений Шварц вдруг становился удивительно твердым (как карандаш), когда речь заходила о принципах.
В 1937 году его друга Николая Олейникова арестовали по ложному доносу – от Шварца потребовали выступления. Чтоб Шварц признал, что сознательно Олейников вредил в кино.
Шварц ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством.
Потом он вспомнит: «Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри».
А в 1956 году запишет в дневнике (нет-нет, это еще не обещанное про дневники – обещанного три абзаца ждут):
«После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. …Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет – не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей».
Слава богу, что машина не свернула.
Ну а теперь про те самые дневники.
Евгений Шварц со второй своей женой Екатериной Ивановной Зильбер (это ей посвящена пьеса «Обыкновенное чудо») был 11 декабря 1941 года эвакуирован из Ленинграда в Киров. При эвакуации лимит багажа должен был составлять 10 кг на человека.
Так вот.
Шварц взял с собой только пишущую машинку, а дневники, которые вел с юности, и все другие рукописи сжег.
Это, конечно, мощно. Это по-нашему. Дракон-птенчик знает что делать. Взять только то, что обещает будущее. То, что говорит о прошлом, может быть уничтожено.
«В Черных горах, недалеко от хижины дровосека, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, жалобная книга, исписанная почти до конца. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным прежним, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Записаны, записаны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно». (Это из пьесы «Дракон».)
Но было и смешное.
Так Михаил Слонимский, например, вспоминал, как когда-то, в начале тридцатых, Шварц ездил вместе с другими писателями по разным важным коллективным стройкам. Один литературный администратор (мы опять сразу вспоминаем Администратора из «Обыкновенного чуда») не дал забыть об иерархии и здесь: одних возвысил, других унизил. Собрал перед отъездом парохода всех и сообщил: все места распределены по табелю о рангах.
Шварц рассказывал:
«Он торжественно и публично назначил великим отдельные каюты, выдающимся – на двоих, а остальных рассовал по нескольку человек. Один выдающийся страшно обиделся и рвался в великие, но его одернули…».
...«Пролвдажжажа, плдпжжве – л плдпджжп. Жищи вотген, птичка, рыбка», – пишу я в память о себе, том, тринадцатилетнем-четырнадцатилетнем, и в память о Евгении Шварце, восьмилетнем, который тоже старательно выводил в тетради каракули. Только он выводил от смущения, я – от лени.
Когда-то сказавший: «Пишу все, кроме доносов» – 15 января 1958 года Евгений Шварц умер.
Последними его словами были «Катя, спаси меня!».
Дорогого стоит.
Значит, жил с той, с кем надо. Когда, даже уже соскальзывая в смерть (вот уже утонули лодыжки твои, дракон-птенчик, вот утонули колени, бедра, живот – но ты тянешься голосом, голосовыми своими руками к единственному, к кому стоит и нужно тянуться), ты зовешь не врача, не бога, не небесного администратора, чтоб тот тебе подобрал посмертную каюту по чину, – а жену. «Катя, спаси меня!» «Катя, спаси!»
«– Друзья мои, и в трагических концах есть свое величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых.
– Что же тут величественного? Стыдно убивать героев, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу».
Я тоже.

 Цивилизация
Цивилизация