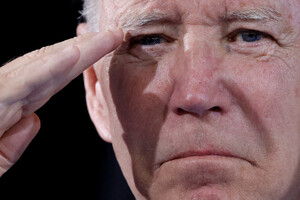Это удивительно: они умерли в один день. И если про Александра Блока знают все, то про Аркадия Штейнберга – очень немногие. Но умерли они именно 7 августа: Блок — в 1921 году, Штейнберг — в 1984-м.
Кажется, сегодня к нам просится, как птица на ладонь, день смерти Блока, тем более что этому дню исполняется ровно сто лет, но поговорим мы о Штейнберге.
Поэт, переводчик и художник Аркадий Штейнберг, отсидевший в сталинских лагерях два раза, однажды нашел применение своему фельдшерскому лагерному опыту, и странным образом это будет иметь отношение к Блоку (а потом мы его забудем).
В лагерном госпитале, куда Штейнберга отправили после обострения сразу нескольких заболеваний, среди зеков-врачей нашлись бывшие ученики его отца, известного в свое время врача и публициста Акима Петровича Штейнберга. Они и помогли ему: не только выходили, но и пристроили на курсы младшего медперсонала.
Уже через много лет, на свободе, в семидесятые, Аркадий Штейнберг прочтет воспоминания о последних днях Блока и скажет своему будущему биографу Вадиму Перельмутеру, что симптомы блоковской болезни ему очень хорошо знакомы. Это – пеллагра. Он часто с ней сталкивался в Потьме.
Пеллагра – это заболевание, часто описываемое в книгах у Солженицына и Шаламова, авитаминоз, который возникает вследствие длительного неполноценного питания. Катастрофический недостаток витамина В3 и белков. Нет, не недостаток воздуха, как пророчил сам Блок («Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем»), а всего лишь недостаток никотиновой кислоты. Фельдшер Штейнберг был внимательней и подробней Блока.
Деталь – вот чем занимается поэт. Не самовыражением, не поиском нового смысла – поэт ищет деталь.
Однажды об этом они заговорили с Перельмутером, и Штейнберг спросил, способен ли тот сочинить стихотворение на заданную тему. «Ну разумеется». Ну тогда вот вам задание. Тема древняя: он и она. Она любит его, всем жертвует, всем пренебрегает. А потом обескураживающее открытие: так ведь он того не стоит. При этом поэтическое задание усложняется: надо не только описать всю, так сказать, коллизию неудавшегося чувства, но так по-бунински все передать, чтоб стало понятно, что это длительная история, что дело происходит в деревне, что идет смена времен года. В общем, след от женского ботинка расплывается под дождем у крыльца, наливается водой, и собаку было бы неплохо купить, только уже не ему, а ей.
«И на все на это, – заключил Штейнберг, – вам дается, – тут он сделал долгую паузу, как отточие обозначил, – две строчки». Помолчал, удовлетворенно наблюдая мое замешательство. И сочувственно: «Можете?» – «Нет, конечно». – «Не вы один. Я тоже не могу. А безвестный автор частушки справился с задачей играючи: «Я любила, грязь топтала. Он дурак, а я не знала». И в этом «грязь топтала» все есть, без обмана».
Деталь – это как перочинный нож (кстати, в лагере не разрешенный), который спасительно взрежет забившееся вдруг горло стихотворения.
Штейнберг вспоминал однажды по другому случаю (ему бы, наверное, не понравилось это мое сравнение про забившееся стихотворное горло: «очень приблизительно»), как у костра один из зеков что-то неудачно куснул, подавился и упал. Тогда фельдшер Аркадий Акимович вскочил, «сунул на миг лезвие перочинного ножа в огонь и – к ужасу окружающих – воткнул острие в горло лежачему и сделал надрез». «А потом, уже у себя, в санчасти, обработал рану и зашил. Пациент выжил – и даже дожил до освобождения».
Но иногда деталь (словесная штучка) бывает жестокой. Но от этого не менее смешной.
После первой отсидки, попавший на фронт и получивший там майора, Штейнберг ненадолго вернулся в Москву и узнал, что его товарищ поэт и переводчик Арсений Тарковский тяжело ранен и что ему отрезали ногу. Он ворвался тогда в палату к Тарковскому и раскатисто с порога спросил: «Арсик, какая нога?» «Правая». «Ну слава богу: переводить сможешь».
А иногда деталь бывает божественно приблизительной.
Так молодой Асар Эппель звонил однажды Штейнбергу и посетовал, что устал искать для очередного перевода эпитет из одного слога. И тут же услышал в ответ: – Старик, не ищите. Такой эпитет в русском языке один – «злой».
У Штейнберга есть одно беспощадное, злое стихотворение. Такой силы текст я читал только, пожалуй, у Слуцкого. Там про то, как во Львове герой стихотворения (ну какой герой: сам Штейнберг) празднует День Победы в пересыльной тюрьме, в камере. И в этот день поместилось все: и баланда из гороха, и нищенская каша, и поверка, и отбой. И день прошел, и всем уже пора спать.
Мы прилегли на телогрейки наши,
Укрылись чем попало с головой.
И лишь майор немецкий у параши
Сидел как добровольный часовой.
Он знал, что победителей не судят.
Мы победили. Честь и место – нам.
Он побежден. И до кончины будет
Мочой дышать и ложки мыть панам.
Он, европеец, нынче самый низкий,
Бесправный раб. Он знал, что завтра днем
Ему опять господские огрызки
Мы, азиаты, словно псу швырнем.
Таков закон в неволе и на воле.
Он это знал. Он это понимал.
И, сразу притерпевшись к новой роли,
Губ не кусал и пальцев не ломал.
(Это «и пальцев не ломал» очень странное тут, как будто перевод и неточный: поставленное в конце строки и строфы, оно утрачивает свою фразеологичность, а приобретает взамен физиологичность, причем чуть ли не дамскую: ведь мы помним, кто сидит у параши, пусть даже это и не тот случай).
И все было бы и так уже сильным, беспощадным, детальным, злым. Если бы не вырастало в конце стихотворение еще более злое, еще более сверхдетальное, супернеотвратимое.
А мы не знали, мы не понимали
Путей судьбы, ее добро и зло.
На досках мы бока себе намяли.
Нас только чудо вразумить могло.
Нам не спалось. А ну засни попробуй,
Когда тебя корежит и знобит
И ты листаешь со стыдом и злобой
Незавершенный перечень обид,
И ты гнушаешься, как посторонний,
Своей же плотью, брезгуешь собой –
И трупным смрадом собственных ладоней,
И собственной зловещей худобой,
И грязной, поседевшей раньше срока
Щетиною на коже впалых щек…
А Вечное Всевидящее Око
Ежеминутно смотрит сквозь волчок.
Вот оно, огромное сауроновское око, еще до всякого Толкина, до всякого Оруэлла (Оруэлл подобное опишет в 1947-48, а Толкиен опубликует свою давно уже написанную эпопею только в 1954 году). Но оно уже с нами.
Оно калечит нас, превращает из жертв в хозяев и опять в жертв. И нет храброго хоббита, который понесет кольцо всевластия к жерлу роковой горы. И нет рядом с нами доброго друга Сэма, полуслуги, полуопекуна, который скажет: «Держитесь, мистер Фродо. Я не могу нести кольцо за вас, но зато я могу нести вас!». И нет рядом зека-фельдшера Аркадия Штейнберга, который, если ты подавишься вдруг всем этим черствым, невкусным, но таким желанным хлебом жизни, сможет тебе надрезать горло перочинным ножом и спасти. Потому что Аркадий Штейнберг умер 7 августа, а у нас у всех духовная пеллагра, и мы все загибаемся.
Чуда не будет, и, если не знаешь, какой употребить эпитет из одного слога, чтобы он как влитой влез в строку, употребляй «злой». Не прогадаешь.
Но тут появляется Сэм.

 Цивилизация
Цивилизация