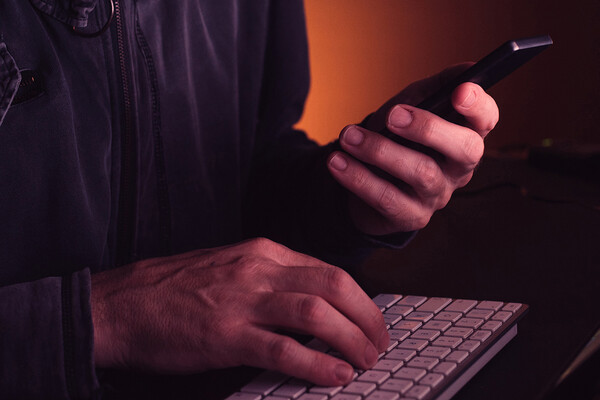На Евстратия (а он именно сегодня) в старину говорили, что в этот день всякая нечисть летает на метлах, пытается замести солнце.
Пурга, метель. Кто там – волк или человек? А может, пень? В общем, тревожно, щекотно.
Радивая хозяйка даже веник, которым снег с валенок обивать или избу мести, уносит с крыльца. Чем черт не шутит? Приберет к рукам ради своих чертовых дел, черных шуток.
Все неспокойно в этот день. Поэтому баба серп в порог втыкает, а мужик топор туда же вклинивает. Защитим дом от зла, спать будем спокойней. У-у-у-у, говорит вьюга за маленьким окном, от всего да не защитишься.
...Не повезло Надсону, родившемуся 26 декабря (если считать по новому стилю), Евстратий ему не ту мету невидимую на лоб поставил. Защитить его от зимней нечисти, от этого снежного беснования никто не смог. Он и умер, кстати, тоже зимой, в январе.
Когда уже больной туберкулезом Надсон получил свою Пушкинскую премию Академии наук, все и началось. Он стал предметом печатных насмешек критика Буренина, сотрудника газеты «Новое время», которого даже смертельная болезнь маленького поэта не остановила. (Я думаю, что Надсон, конечно, был маленьким поэтом. Хотя как нам забыть его «пусть роза сорвана – она еще живет, пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает. Хотя, конечно, все это ни в какие ворота: и роза, и арфа, и «рыдает» – но ведь помнится же.)
Никак не названный Бурениным, но отлично угадываемый, Надсон предстает в его текстах «мнимо недугующим паразитом», который притворяется больным и умирающим, потому что жить на счет частной благотворительности. Про благотворительность было особенно нехорошо: тут Буренин намекал на бескорыстную заботу одной из почитательниц о смертельно больном сочинителе. Не забыто (до кучи) и еврейское происхождение Надсона. В одном из памфлетов Надсон выводится под видом еврейского рифмоплета Чижика, чью животную страсть удовлетворяет грубая перезрелая матрона. Нехорошо.
Надсон очень нервничает, психует. Он даже собирается ехать в Санкт-Петербург, чтобы устроить суд чести. Но друзья ему не позволяют этого сделать. Да и куда ему ехать: он харкает кровью. Еще и рука отнялась.
Умер от чахотки, умер одиноко,
Как и жил на свете, — круглым сиротою;
Тяжело вздохнул, задумался глубоко
И угас, прильнув к подушке головою.
Кое-кто о нем припомнил… отыскались
Старые друзья… его похоронили
Бедно, но тепло, тепло с ним попрощались,
Молча разошлись — и вскоре позабыли.
(Слишком много многоточий, стишком много).
«Того, что проделал Буренин над умирающим Надсоном, не было ни разу во всей русской печати. Никто, в свое время читавший эти статьи, не может ни забыть, ни простить их», – так потом напишет Короленко в одном письме.
...Немного в сторону. Травля – вообще самая распространенная (хотел сказать русская, но это неправда) общечеловеческая забава. Много в нас еще от злых, скалящих зубы (улыбка это же и есть оскал, ничего больше) обезьян.
Совсем в другое время, и когда травля была поопасней надсоновской, и когда люди пропадали пачками, один человек сам решил исчезнуть.
Был такой советский писатель – Леонид Добычин. На одном из собраний в 1936 году, где прорабатывались «формалисты» и где ему тоже досталось («позорно», «подражание Джойсу», «Добычин – наш ленинградский грех»), после того как ему предоставили слово (он вышел, обвел всех взглядом и сказал: «К сожалению, с тем, что здесь было сказано, я не могу согласиться»), Добычин вышел из зала и навсегда исчез. Как в воду канул.
Есть версия, что именно туда он и канул: утопился в одном из каналов.
Но вернемся к Надсону. Его врач потом напишет (это будет открытое письмо), что смертельный удар по нервной системе Надсона был нанесен статьей Буренина от 12 декабря 1886 года. «…он впал в необычайное раздражение, страшно волновался, говорил: «это уж слишком гнусно, этого оставить так нельзя», и хотел тотчас же ехать в Петербург… Я уверен, что умерший безвременно Надсон, несмотря на безнадежность болезни, мог бы прожить, по меньшей мере, до весны или даже осени, если бы вышеупомянутый фельетон г. Буренина не был напечатан».
...Кружат, кружат бесы, то веник сопрут, то в окно темным сморщенным кулачком постучат: никакой серп, воткнутый в порожек, никакой топор, вбитый туда же, не помогает.
У Власия Дорошевича, известного театрального критика и фельетониста рубежа тех веков, была такая «пьеска», «колоночка» (хотя, наверное, самого термина «колонка» еще и не существовало), где «в кандальном отделении «Нового Времени», в подвальном этаже, живет старый, похожий на затравленного волка, противный человек, с погасшими глазами, с болезненным, землистым лицом, с рыжими полуседыми волосами, с холодными, как лягушка, руками».
«Это старый палач Буренин. Сахалинская знаменитость. Всеми презираемый, вечно боящийся, оплеванный, избитый, раз в неделю он полон злобного торжества — в день «экзекуций».
Свои мерзкие и жестокие экзекуции он производит по пятницам».
И вот его спрашивают про умученных. И он в общей череде вспоминает, что был у него такой, молодой, с длинными волосами, стихи писал. И такие грустные стихи, задушевные. Словно конец свой чувствовал. Глаза еще у этого молодого были такие большие, мучительные глаза, мученические. Да и чахоткой он болел.
«Ну, я его и того… и прикончил…».
И снова эти многоточия. Век такой был. Любили их ставить. А по-моему, напрасно. Это разжижает текст. Многоточие хорошо в начале абзаца, когда показывает, что это как будто новое включение, отступление, другая тема. И все, больше нигде. А лучший знак препинания – точка. Мускулистая, мужская, холодноватая, твердая точка.

 Цивилизация
Цивилизация