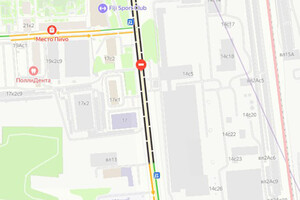Все новогодние праздники граждан России агитировали сходить на фильм о декабристах «Союз спасения». На днях его даже показали депутатам Государственной Думы в рамках парламентского киноклуба. При личном присутствии генерального директора Первого канала и продюсера фильма Константина Эрнста. Фильм думцам понравился, а депутаты Жириновский и Толстой отметили его исключительную достоверность.
Профессиональным историкам так не показалась, поэтому журналисты обсуждали, исказили или нет авторы фильма историческую правду (ну да, исказили, но вроде бы в национальных фильмах миф выше правды, этому ведь учил нас бывший министр культуры, который теперь будет советовать уже не нам, а лично президенту).
По поводу фильма мне сказать нечего, а вот по поводу мифа — очень даже есть что.
Вспомнила я весьма авторитетного прежде ученого-филолога Юрия Лотмана, написавшего о декабристах очень важную вещь. Именно Лотман отметил, какое существенное влияние на культуру имел образ декабриста, новая поведенческая модель, которую эти молодые люди, элита тогдашнего общества, говоря сегодняшним языком, внедрили в национальное сознание.
Лотман пишет о «создании особого типа русского человека, по своему поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история». Главным в этом поведении была прямота и резкость высказывания, демонстрация своей оценки происходящего, попросту — устной критики существующего строя.
Лотман подчеркивает, что подобная откровенность была сознательной, более того — вменялась в обязанность будущим декабристам. Он приводит в пример Федора Глинку: «один из активнейших и трогательно благородных людей эпохи, писатель, боевой офицер, полковник гвардии и полунищий бессребреник, идя на бал, записывает: «Порицать 1) Аракчеева и Долгорукова, 2) военные поселения, 3) рабство и палки, 4) леность вельмож, 5) слепую доверенность к правителям канцелярий…»
Он идет на бал как на кафедру — «греметь» и поучать. Тут же на балу он оглашает случаи крепостнических злоупотреблений и организует подписки для выкупа на волю крепостного поэта или скрипача».
Даже когда «такое поведение в свете (это все равно, что нынче высказываться в социальных сетях) казалось наивным и смешным», когда светские люди недоуменно пожимали плечами, осуждая неуместную в гостиных «сердитость», будущие декабристы сознательно и целенаправленно готовили такие выступления, в ущерб тайным целям разоблачая себя как «опасных врагов отечества». Но молчать они считали ниже своего достоинства, а публичную критику власти, осуждение части собственного сословия, ради личных интересов закрывающих глаза на злоупотребления, — своим долгом.
Эти непрактичные «речевые жесты» оказали на общество сильное влияние, возможно, более сильное, чем само восстание. Подкрепленное мученической смертью одних и суровым наказанием других, с тех пор и до сегодняшнего дня такой тип поведения в русской культуре интуитивно считывался как героический, и с ним ничего не удавалось сделать.
Комедия «Горе от ума», до сих пор остающаяся едва ли не главной пьесой в школьной программе, своим легко запоминающимся языком зафиксировала в образе Чацкого именно эту поведенческую модель как героическую.
Чацкий, как может показаться — а современникам и казалось, — ведет себя нерационально, «мечет бисер перед свиньями», витийствует перед Фамусовым и Скалозубом, («он говорит много, бранит все и проповедует некстати», писал Катенин), но позиция Чацкого тем не менее остается благородной.
В ХХ веке на сцене было много спектаклей по пьесе Грибоедова. И, увлекаясь режиссерскими трактовками, театры иной раз спускали Чацкого с пьедестала, объясняя его психологически, делали его бытовым, слишком юным, или слишком слепым, равнодушным или усталым.
Но никто не сделал героем Молчалина.
Хотя казалось бы — что плохого в Молчалине? Он скромен, услужлив, предупредителен, тактичен, в отличие от Чацкого уважает старших, не лезет вперед, «чужих и вкривь и вкось не рубит». Он неглуп, а Белинский даже писал, что «дьявольски умен, когда дело касается его личной выводы».
Но, возможно, как раз сегодня настала пора пересмотреть подход и к Молчалину, а также к Скалозубу. Скалозуб уже подвергается реабилитации — военный, фронтовик, «ветеран Отечественной войны 1812 года» (блогеры не читали комментариев к пьесе, а сами не увидели в ней намеков на тыловое прошлое и на особую карьерную удачу: «Довольно счастлив я в товарищах моих, Вакансии как раз открыты; То старших выключат иных, Другие, смотришь, перебиты». Впрочем, сегодня этот способ продвижения по социальной лестнице уже и не осуждается).
Еще в 1907 году режиссер Художественного театра Владимир Иванович Немирович-Данченко писал: «Современный нам век расплодил в русском обществе несметное количество Молчалиных. Едва ли из всех типов «Горя от ума» это не самый сильный, самый живучий, самый липкий, самый производительный».
Сегодня Молчалиных очевидное большинство, из нарицательного и осуждаемого культурой персонажа этот услужливый и надежный малый становится буквально примером для подражания:
«Молчалин является работяжкой — он вкалывает и много!» — выносит свое скорое суждение народный блогер, а некий неизвестный беллетрист формулирует более подробно: «С чего вы взяли, что у Молчалина нет своего мнения? В пьесе полно моментов, где прекрасно видно, что у него есть четкая жизненная позиция и «мнений» у него тоже с избытком. Просто его мнение никого по факту не интересует! Попробуйте переложить эту ситуацию на сегодняшние реалии… Всем же понятно, что Молчалин «никто и звать его никак»... вынужден выживать в большом чужом городе. А иметь свое мнение — это значит вступать в конфликт с окружающими (что, например, Чацкий и делает с маниакальным удовольствием)».
Проблема, впрочем, не в том, что сегодня больше востребованы Молчалины и Скалозубы – они во все времена пользуются большим спросом, а в культурных традициях. Меняются ли основные культурные тренды?
В большой нации представления изменяются медленно, нужно время, чтобы мысль обросла нужными коннотациями, усвоилась, обкаталась, стала народной и прижилась в качестве национального мифа. Но, кажется, задачей нынешних официальных идеологов стало именно это — коррекция, а лучше — замена базовых основ культурного сознания, которое все чаще объявляют интеллигентским, либеральным, противоречащим духу русской государственности.
Возможно, это правильно, тут важно, чьими наследниками сегодняшние государственные чиновники себя считают.
Чацкий прежде годился почти всем. В том же 1907 году, когда в Художественном театре Василий Качалов (чья правнучка у нас сегодня в министрах культуры) играл Чацкого, газета просвещенных консерваторов писала: «Разве наша революция не тот же Чацкий? Остановитесь только на волне, гонимой преемственно-либеральным течением русской мысли: разве она не вкатилась к нам, как Чацкий к Фамусову, «с корабля на бал», полная надежд, веры, любви... и разве не встретила она в нас, в правящем слое, фальшивой и развращенной Софьи? Разве не поступили мы с актом 17 октября так же скверно, как Москва с Чацким? Черносотенцы, октябристы, кадеты, социалисты и над всеми ними — самодовольный лик г. Премьер-министра... Ну разве нет тут сходства со Скалозубами, Фамусовыми, Молчалиными, Репетиловыми и Загорецкими?» («С. -Петербургские ведомости», 3 мая 1907 года).
Пугая восстаниями и революциями, мятежами и бунтами, власть охотно приукрашивает вторую сторону, снимая с себя всякую ответственность за последующие события. Если кому-то не нравится государственное устройство, проблема не в качестве управления. Проще объявить недовольного бунтовщиком, опасным, а власть — священной и непогрешимой, дело и решено. «И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних \От пансионов, школ, лицеев, как бишь их… Там упражняются в расколах и в безверьи,\Профессоры!!» — И нужен лишь «проект насчет лицеев, школ, гимназий», чтобы «учить по-нашему: раз, два»…
С властью, в общем, понятно, она сама себя защищает. Но культура, сформированная в условиях, когда прямое честное слово считалось не меньшей доблестью, чем честный поступок, сегодня, похоже, тоже готова к переменам. Новые скрепы готовит нам жизнь.
Недавно критик Андрей Плахов написал колонку о самоцензуре продюсеров, не решающихся на проекты Андрея Звягинцева. Это вызвало невероятный шквал со стороны тех, кто смог заподозрить в адресатах себя: «кино должно быть духоподьемным. А после «Левиафана» и «Нелюбви» хочется повеситься. Зачем это кино? Какие задачи оно решает? Это и не правда, и не манифест, и не арт. Это тлен, сероводород, клоака». «Когда хамство и пошлятина в искусстве и литературе зашкаливает пределы нравственности, такта и уважения, то так называемая цензура необходима! Вам ближе Звягинцев и мошонка, прибитая к брусчатке, а мы будем смотреть «Они сражались за Родину», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и искренне надеяться, что бы кто-то из вас, непризнанных гениев, снял что-то хотя бы близкое по уровню».
Если честно, то гордиться национальным флагом, петь гимн со слезами на глазах, считать свою Конституцию лучшей в мире очень приятно. Увы, долгие годы герои и лучшие представители русской культуры не могли этого делать с чистой совестью — слишком бросалась в глаза лицемерная разница между желаемым и действительным.
Если сегодня российская элита с открытым сердцем сольется с официальной идеологией — это будет глобальным переворотом. Молчалины и Скалозубы его возглавят.

 Цивилизация
Цивилизация