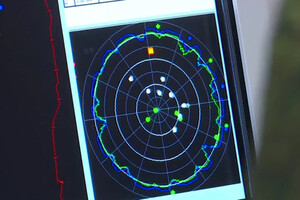История эта произошла еще до того, как все — и дети, и депутаты — ушли на каникулы.
— Там Федеральное собрание опять попросило не расходиться, — деловито сказала Синицина, глядя в фейсбук, когда мы уселись на скамейку возле нового бара.
Полчаса назад она анонсировала нам крафтовое пиво (это модно) и открывающийся вид на относительно мытых молодых людей (это редко), и не обманула.
— Да они ходят туда-сюда, надоело, — сказала Волкова.
— Помните, чего в прошлом году было? — сказала Синицина.
Мы помолчали. Хорошего ничего не было.
— Напьемся и пойдем снимать этих, — решила Синицина.
— Которых? — уточнила Волкова.
— Евро, — мрачно сказала Синицина.
Как приличные героини колонки про секс в большом городе, мы должны бы говорить как раз про него, но мы не в Нью-Йорке 98-го, а в Москве 2015-го, и получается говорить о том, о чем получается.
Мы дружим, и дружба наша держится на странном взаимном отказе от чванства и лицемерия — добровольной аскезе, которую не могут себе нынче позволить мало-мальски приличные люди. Мы хотим захватить мир и великой любви, но первого хотим все-таки больше. Короче, мы дружим как мушкетеры.
— В Венгрии можно сделать ВНЖ всего за 250 тысяч, — вдруг говорит Синицина. — Не то, что в Португалии — там нужно полмиллиона, и это жесть. (И эвфемизм.)
— А двести пятьдесят — не жесть? — спрашиваю.
— Жесть, — легко соглашается она.
Нам нет смысла притворяться — пару лет назад эмиграция, обязательная в надрывных столичных разговорах, была романтической грезой: Герцен, Бунин, как нам, не пролив просекко, обустроить Россию.
Потом беседы растворились — почти все, кто мог позволить себе (в простом финансовом смысле) уехать, уехали. Примерно тогда же выяснилось, что несмотря на любой градус экзальтации или осуждения в разговорах о бегстве, ничей опыт не сравним ни с чьим.
Вопросы философии вдруг обернулись арифметикой, а деньги в Москве, как известно, табу. К тому же, как справедливо предупреждал нас еще Грегори Хаус, все врут. И очень вдохновенно.
— Как они все утомили, — вздохнула Синицина. (То есть она не совсем так, конечно, вздохнула.) — Мы же все понимаем, что бодрое заявление «Я зарабатываю фрилансом» на самом деле означает «Я тут сдаю прабабушкину хату».
— А фраза «молодой дружный коллектив» переводится: «Мы тут все страшно обижаемся, когда с нами заговаривают про деньги».
— А меня зато Воденников лайкает, — сказала Волкова, и мы пристыженно замолчали.
Тут подошел несвежий человек с бутылкой шампанского и высказался в том смысле, что, будучи сотрудником важного городского департамента, настоятельно хотел бы порекомендовать нам свои услуги в области утех. Мы вежливо отказались и на всякий случай отошли, но настроение стало элегическим.
— Вот знаете, что мне в «Хорошей жене» нравится, — сказала Волкова, когда мы свернули в сквер, — что там все правда: в первом сезоне встретились, в пятом — переспали. Помните, как в школе? В восьмом классе ты смотришь на него на переменах. В девятом вы наконец-то здороваетесь. В десятом он уходит в другую школу, и ты сохнешь по нему до самого выпускного. Сейчас же все то же самое, а все вокруг думают, что у взрослых — один сплошной one-night-stand.
— А мне интересно, что теперь Робин Гуд будет делать, когда от него Бастинда забеременела? — согласилась Синицина. — Он и не хочет ее совсем. Он Злую Королеву любит.
Мы спорим; мне не нравится Робин Гуд, Робин Гуд — социалист и слабак.
Мы говорим про сериалы так, как когда-то в том же сквере говорили про Хемингуэя, Ремарка или Сартра. А впрочем, нет —
мы говорим про них, как викторианские леди показывали на кукле, где болит, поскольку это было уместнее, чем объясняться словами.
— А я проматываю про отношения, — честно говорю я, когда мы доходим до «Игры престолов». — Смотрю там, как одичалые с топорами бегают, белых ходоков крошат. Про зомби еще начала. Тоже ничего.
— Очень тебя понимаю, — сказала Синицина, вызывая такси. — Я тоже устаю на работе.

 Цивилизация
Цивилизация