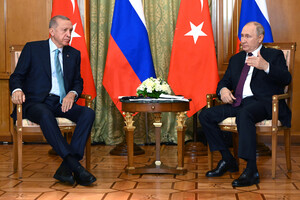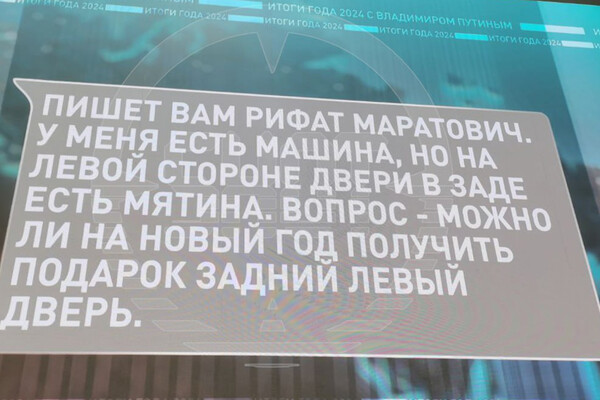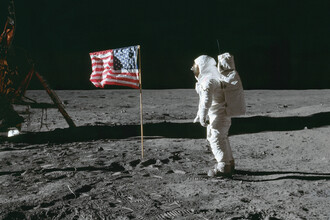Красная площадь. Отец в первый раз ведет дочку лет шести по Москве. Оба в одежде, скорее всего, купленной на провинциальном вещевом рынке, но смартфон на палке для селфи весьма дорогой — им отец постоянно фотографирует себя и дочь. Отец, стараясь говорить просто, с неопытной нежностью в голосе — он любит дочку и гордится тем, что может ей что-то рассказать, — отвечает на ее вопросы. Они проходят мимо Мавзолея Ленина и дочка спрашивает: «А там что?»
«Там Ленин. Создатель нашего государства. Лежит под стеклянным колпаком как живой. Его мажут специальными мазями», — отвечает отец с интонацией рассказчика сказок. Особенно по-сказочному звучит «как живой». Дочка удивляется такой странной посмертной судьбе, и отец пытается найти ее объяснение в фактах ленинской жизни: «Его избрали главой государства. Он много болел, в него стреляли, он страдал. И когда он умер, решили его тут положить, чтобы все смогли на него посмотреть, — здесь ленинские факты кончаются, и отец пытается опереться на другой сюжет. — А до Ленина правил царь. Его убили вместе с семьей и слугами».
Дочка после паузы спрашивает: «Зачем?»
«Ну, люди не хотели, чтобы царь ими управлял», — похоже, отец удовлетворен этой фразой, избавившей его от описания предреволюционного терроризма, бредущих по сибирским дорогам каторжан, бездарной императорской политики, забастовок, расстрелянных демонстраций, авантюризма начитанных революционеров, бессмысленной войны, поврежденной артиллерией в октябре 1917 года Никольской башни Кремля, мимо которой они сейчас проходят, кошмаров порожденной революцией Гражданской войны.
Фраза логично замыкает сюжет, отец и дочка уже почти ушли с Красной площади, еще немного, и она забудет сказку о Ленине и царе, ее вытеснят другие, более приятные и понятные сказки: сказочные скульптуры для фотографирования на Манежной и дорогие магазины Тверской, рассказывающие сказку о чудесной московской жизни.
Но девочка останавливается, смотрит на отца и говорит: «Это же очень плохо! Всех убили! Всю семью! И детей тоже убили? А слуг за что?»
Что сделало прививку гуманизма этой девочке? Вряд ли русские народные сказки, где герой рубит всех на куски, затем героя рубят на куски, затем его поливают мертвой водой и он лежит подобно Ленину — мертвый, но как живой. Вряд ли раннесоветские сказки, где добро побеждает зло максимально жестоким образом. Вряд ли позднесоветские сказки, где добро и зло даже не названы, а персонажи делятся на принадлежащих «нашему кругу», на обладателей «хороших светлых лиц», и на остальных.
Единственный доступный девочке источник гуманизма — это бесконечные телевизионные сериалы, которые она смотрит с бабушкой, пока родители не вернулись с низкооплачиваемой нудной работы. Там добро медленно и бескровно побеждает зло, превращая его в некое подобие добра. Там героиня страдает — и поэтому она добивается счастья. И поэтому она хорошая. И поэтому она героиня. Именно так масскульт производит то, что называли «смягчением нравов» российские интеллигенты, перед тем как стать авантюристами-революционерами. И даже нарочито грубые «ментовские» сериалы в конце концов приходят к гуманному итогу.
А телевизионные новости девочка не смотрит. Там герои и антигерои каждый день разные, но ведут они себя как-то одинаково. И непонятно кто в итоге побеждает — хорошие или плохие.
Только массовая культура может научить постсоветского человека гуманизму. Ведь гуманизм — это, прежде всего, уважение к чужой жизни, признание за другим человеком права на свободу выбора, на счастье. А понятие счастья у всех разное.
Поэтому если нужно будет объяснить шестилетней девочке, что такое гуманизм, то можно сказать так: это когда у всех есть право на жизнь и право на то, чтобы отличаться от других.
Сейчас стало модным хвалить советскую жизнь, ностальгировать по ней. Да, в позднесоветские годы была недоступная сейчас стабильность, надежда на медленный прогресс, благодаря которому социализм когда-нибудь сольется с капитализмом. За это можно простить ей — особенно из нынешнего времени — проблемы с едой, одеждой и развлечениями. Но принципиальным и непрощаемым свойством советской власти был ее открыто декларируемый антигуманизм. Он, конечно, был сильно смягчен в послесталинские, как говорила Ахматова, «вегетарианские времена». Но он был базой, на которой строилось советское общество.
Я вырос в городе, где в доме инженера Ипатьева расстреляли последнего царя. Я жил на рабочей окраине, Ипатьевский дом находился в центре, в старом районе, поэтому я его помню плохо, но, несмотря на нежный возраст, хорошо запомнил типичные для советского времени кухонные разговоры о разрушении дома по приказу из Москвы. И я помню свою реакцию. Я, как и девочка на Красной площади, был поражен тем, что вместе с царем были убиты дети и слуги. Но я с пониманием выслушал взрослый аргумент: к городу подходила Белая армия, царь или его наследник могли стать символом, вокруг которого могли объединиться антикоммунисты, а слуги стали бы свидетелями расправы. И я согласился — если не с аргументом, то с его логикой. Сейчас мне стыдно за ту мою реакцию. Единственным оправданием мне может стать лишь отсутствие в моей детской жизни развитой масскультуры.
Девочка привыкла, что взрослые живут плохо, — они постоянно об этом говорят. Но взрослые редко говорят, что раньше было еще хуже — они этого не хотят помнить, а девочки тогда вообще не было.
Странно говорить хорошее о своей стране, непривычно. Но сейчас знаки гуманизма — они везде. И уж точно гуманизма в нашей жизни больше, чем в советской.
Да, концепция прав человека в нашем обществе пока полноценно не прижилась, но она хотя бы понятна: в советские времена эти слова были заморским ругательством. Да, защита прав человека чаще всего работает как защита прав потребителя, но опыт развитых стран показывает: именно так формируется гражданское общество, гуманное к рядовому человеку.
Да, водителю, не пропустившему пешехода на переходе, грозит солидный штраф. Но многие водители пропускают пешехода уже по привычке — в советское время так поступить означало проявить позорную мягкотелость. Да, есть закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних — очень странный даже с точки зрения формальной логики. Когда закон принимали, его противники прогнозировали, что народ будет лупить тех, чей внешний вид и поведение пропагандирует сексуальную нетрадиционность. Но как-то обошлось.
Да и нынешняя терпимость нашего общества к внешнему виду удивительна — парижская уличная публика выглядит куда более скучно, чем, например, питерская. В советское время серьга у мужчины, тату у женщины, драные джинсы, цветные волосы вызывали душевные страдания не только у милиции, но и у рядовых прохожих. Сейчас главные стилисты народной моды — вещевые рынки, например питерская «Апрашка», завалены яркой провокативной одеждой. Разве можно представить, чтобы девушка могла в минимальной юбке и нарочито драной майке пройти по советскому городу?
А разве можно было представить, что вчерашние школьник и школьница, не оформив отношений, не спросив у государства, снимают жилье и живут вместе? И родители относятся к такому сожительству нормально?
И современная одежда, и свободное отношение к себе, к своей жизни, к своему телу — все это привнесено в нашу жизнь масскультурными механизмами.
Недавний скандал, вызванный романтическими отношениями учителей и учеников знаменитой московской школы №57, стал хорошим тому примером. О проблеме стало известно благодаря членам сообщества выпускников, скандал развивался поначалу без участия государства, и судьбы именно учеников, а не администрации школы сразу обсуждались наиболее активно. Когда же выяснилось, что девочкам на момент романа с учителем уже исполнилось 16 лет, обсуждение быстро перешло от темы уголовного преследования к этическим вопросам, и даже сторонники келейного решения были согласны, что учитель поступил плохо. Весь этот скандал выглядит очень кинематографично — например, как оскароносный фильм «В центре внимания» (Spotlight) об утаивании случаев сексуального домогательства священников католической церкви в Бостоне.
Сценарий как российского скандала, так и американского фильма словно написан по одной схеме: один человек бросает вызов системе, жертвы поначалу опасаются обвинять, начинается журналистское расследование, сообщество раскалывается на две части, по-разному отвечая на вопрос о том, что важнее — репутация сообщества или судьба одного человека. Чем кончится школьный скандал, сказать трудно, но чем позже к нему подключатся государственные органы, тем будет лучше для всех — и для тех, кто сейчас считается жертвой, и для тех, кто пока выглядит преступником. Наше государство плохо умеет решать подобные проблемы, делая если не преступниками, то жертвами всех подряд.
Однако за медленную, но верную гуманизацию общества нужно сказать отдельное спасибо и нашему государству — оно не было против, но и специально ею не занималось.
Ничего, мы подождем. Очень быстро настанет будущее, когда поколение, выросшее на сериалах, носившее в детстве одежды безумных цветов, придет к власти — в политическом, экономическом и метафизическом смыслах. Мы не знаем, какой тогда будет наша страна, но есть надежда, что она станет более гуманной. К тому же в этих сериалах так много активных героинь, борющихся за свое и чужое счастье, — они каждый день учат девочек действовать. Теперь только на них надежда — мужчины показали себя плохими гуманизаторами.

 Цивилизация
Цивилизация