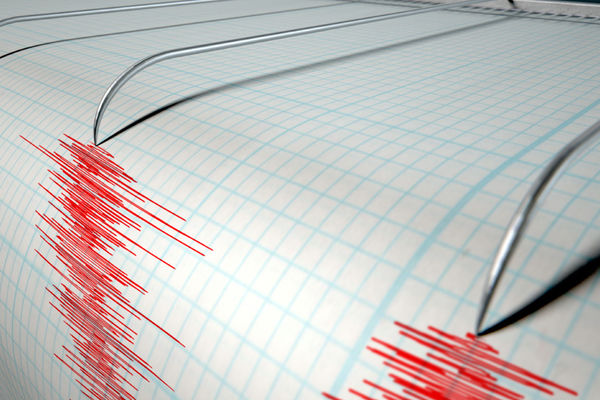В общем, использованию грубой брани, извините за выражение, положат конец. Всем известно, что в наших СМИ, кино и на театральных подмостках — никакой культуры, сплошное фу, нет-сил-терпеть-это-бесстыдство.
Теперь в новостях останется одна куртуазность, ранние романы известного патриота Эдуарда Лимонова можно будет только дома освободить от обертки с печатью «Опасно!», а герои криминальных сериалов обретут изящные манеры и будут лишь изредка наказывать друг друга пощечинами. О том, насколько это актуально, насколько нужно нашему измученному обществу, заботливые депутаты от фракции ЛДПР говорили еще в 2012 году. А вот кампания по искоренению чуждых элементов, всяких там американизмов только начинается.
Контроль за употреблением русского языка идет по двум направлениям.
С одной стороны, это ограничение живого «низового» языка, составляющего значительный ресурс обмена с языком литературным, чья пресловутая чистота может всерьез обсуждаться либо крайне консервативными, либо невежественными людьми (иногда это одно и то же). С другой стороны, кому-то нужно по возможности ограничить внешнюю коммуникацию и переключить язык на самоизоляцию. Для русской культуры губительно и то и другое.
Сначала о пресловутой «нецензурной» брани в публичном пространстве. Само слово, служащее в данном случае определением, отсылает к наличию института цензуры, которая на протяжении многих лет, если не столетий, регулировала пути и способы передачи информации.
В национальных государствах, чье образование началось в XVII веке и завершилось во второй половине XX, цензура играла различную роль, но одинаково потеряла всякий смысл в глобальном мире, где нация и ее язык уже не являются важными категориями государственного строительства. Добили цензуру электронные СМИ, которые независимы от носителя и в отличие от телевидения находятся в меньшей зависимости от эфирного формата. Максимум вмешательства, который возможен в современной правовой ситуации, заключается в возрастных ограничениях (на которые наши законодатели уже пошли самым ретивым образом) и в разветвленной системе предупреждений.
Взять и запретить органичный пласт языка невозможно, это понимают даже те, кто отдает подобные приказы. Просто другие тактики им не знакомы или кажутся слишком сложными. Они действуют, как привыкли.
В их распоряжении — пул консультантов и лояльных деятелей культуры, попавших от власти в незавидную зависимость. Ведь они вынуждены с серьезным видом говорить, что, с одной стороны, ругаться нехорошо, а с другой стороны, если ругается хороший писатель, тогда совсем другое дело.
Где граница художественного замысла и хамства, кто и как это будет доказывать, кого тут хотят обмануть?
Теперь об иностранных словах. В глазах Государственной думы это, конечно, еще не мат, но уже взято на карандаш. Вероятно, ни один из членов комитета по культуре не помнит со школы сюжет с адмиралом Шишковым, над которыми потешались Пушкин и Белинский, хотя их сложно назвать единомышленниками. Опять вместо «театр» нужно говорить «позорище», а вместо «тротуар» — «топталище», не иначе.
Неужели нельзя придумать ничего более нового, чем стертые, риторически бедные, состоящие из общих мест призывы блюсти красоту языка? Сегодня не нравится слово «мерчандайзинг» (кто отважится коротко перевести его на русский?), завтра придется подыскивать синоним слову «университет».
Мы уже проходили войну со словами, войну с людьми за слова, войну с людьми безо всяких слов, потому что они уже не нужны.
Маховик раскручивается сызнова не только из-за короткой, а то и отсутствующей культурной памяти. Причина — в одной неосознанной проблеме.
Русский язык долгое время был языком имперским, объединяющим народы. На нем было принято говорить, его было принято навязывать. Крах советской империи обозначил кризис русского языка в его прежней функции.
В отличие от английского, чьи носители очень выгодно воспользовались расстановкой сил в послевоенном мире, русский язык в конце XX века получил травму массового отказа.
Многие люди на отколовшихся территориях принципиально выбрали другие языки, даже если хорошо говорили по-русски. Россия добровольно провозгласила себя наследником СССР, присвоив себе поражение в «холодной войне» и затаив жажду реванша.
В итоге русский язык остается языком крайне уязвленного, травмированного имперского сознания. С этим тесно связаны и наш на первый взгляд мягкий расизм, и крайне жесткая нормативность: мы знаем, как говорить правильно, а как неправильно, сразу распознаем «нерусского» и т.д.
Нам еще чрезвычайно далеко до режима, когда локальная идентичность накладывается на владение глобальным языком. Так, носитель нидерландского литературного языка подчеркнет даже свою диалектную принадлежность. Одновременно голландец (или зеландец, фрисландец, житель Маастрихта) может объясниться как минимум на одном языке контакта (lingua franca) типа английского, немецкого или испанского.
С одной стороны, интимность, с другой — открытость. Языки контакта, как и в прежние годы, изучают лингвисты, за их употреблением наблюдают, разрабатывают тесты для выявления степени их владения, но никто не говорит, что ломаный Euro-English надо цензурировать и «лечить». Экспансия предполагает заимствования, в том числе кажущиеся дикими обитателям культурного ядра. Культура сама решает, что отбросить, а что оставить.
Самое интересное, что русский язык, несмотря на все лишения, остается lingua franca для многих этносов и культур. Но в той же Москве приезжих из бывших республик Средней Азии даже не думают централизованно учить русскому языку, сочинять для них какие-то программы.
Они ведь и так будут мести улицы и пополнять карманы рядовых сотрудников подразделений МВД.
Причины разгоревшегося ханжества лежат далеко за пределами лингвистики. До нее серьезным людям обычно нет никакого дела. Иностранные слова — это метка, по которым распознается неблагонадежный элемент. Если брань отсылает к «своей» дворовой субкультуре, полублатному андерграунду, с которым у власти давние связи, то иностранные словечки — это уже однозначно «чужое», языковые инструменты обнаружения врага. Стиляги, хиппи, панки, готы и прочие молодежные субкультуры с их заимствованными вкусами лишь незначительно отличались от каких-нибудь читающих по-английски лингвистов.
Кстати, в поздние советские времена эти две ветви андерграунда, то есть неподцензурной культуры, часто пересекались. Именно поэтому гуманитарии в СССР так любили крепкое русское слово, а выпускники профтехучилищ страстно слушали психоделический рок. При необходимости у всех были одинаковые проблемы. Скучные и предсказуемые.
Регулирование языка законодательными мерами оскорбительно для культуры, которая всегда будет регулировать себя сама.
Русскую культуру почти на корню изничтожили при Сталине, а она, поди ж ты, жива. Далее — это неэффективно в административном отношении, так как соблюдать эти запреты все равно не будут. Наконец, это просто нелепо с цивилизационной точки зрения, хотя людей, которые принимают подобные решения, такие мелочи не интересуют.
Поистине, самый подходящий анекдот, вспоминающийся в связи с этим. В 2016 году депутат Госдумы РФ узнал, что запрещать больше нечего, и с досады просто пнул собаку.

 Цивилизация
Цивилизация