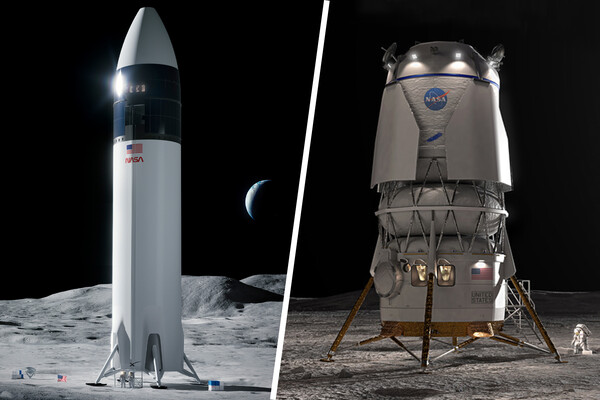Исполняется 20 лет с тех пор, как начались «лихие 90-е», по крайней мере в экономическом их смысле. 28 октября 1991-го, открывая первый после разгрома ГКЧП депутатский съезд, президент Ельцин объявил, что возлагает на себя обязанности премьер-министра и поведет Россию к рыночной экономике через тернии шоковой терапии.
Депутаты, завтрашние его враги, вряд ли уяснили смысл обещанного, однако поддержали президента почти единодушным голосованием. Неделю спустя Гайдар и его люди были назначены на министерские посты в кабинете Ельцина. Еще через восемь недель, 2 января 1992-го, цены стали свободными. Шок свершился.
Это великое событие, а равно и последовавшая за ним реформаторско-гайдаровская эпопея окружены таким плотным кольцом мифов, вокруг них такая концентрация негодований и восторгов, как будто эти события состоялись не поколение назад, а происходят прямо сейчас.
И надо сказать, что крупный вклад в запутывание вопроса внесли сами реформаторы, со своим стремлением приписать только себе авторство экономической политики начала 90-х и вытекающей из этого постоянной их готовности брать на себя ответственность за решения того времени.
Егор Гайдар поступал так во многом из рыцарских соображений, считая, видимо, недостойным ссылаться на объективные трудности или происки недругов. Но часть его собратьев по команде от рыцарства далека и просто старается преувеличить собственный вклад в историю, попутно приукрасив и подправив свои тогдашние и последующие действия. А есть среди бывших гайдаровских коллег и помощников еще и пламенные критики задним числом, обличительный пафос которых вздымается тем выше, чем больше лет проходит со времени их с Гайдаром совместной работы.
Безусловно, реформаторская политика даже в первые, романтические свои месяцы вовсе не была наилучшей из всех тогда возможных. Из сегодняшнего дня это видно с полной ясностью. Но ведь тогда-то сегодняшней мудрости ни у кого еще не было — все приходилось делать на ощупь и в цейтноте.
Однако разбор конкретных тогдашних ошибок – это отдельная проблема, прояснению которой участники событий, как уже говорилось, не очень-то склонны помогать. Но к этому надо добавить, что более тонкими знатоками новой экономики и более умелыми строителями капитализма, чем были они, страна тогда просто не располагала. Остальные претенденты на ту же роль к осени 91-го так или иначе сошли с дистанции или залегли на дно. Уверенность в себе и наклонность к рассуждениям на тему «у меня бы получилось в миллион раз лучше» вернулись к ним только позже, когда дело уже было сделано. Что же до самого этого дела, то
состоявшаяся, пускай и с огромным трудом, реставрация российского капитализма по своей исторической грандиозности сравнима только с ликвидацией этого капитализма в начале ХХ века.
Переход к рыночным порядкам был великим и неизбежным. Но с ловушкой, которую нельзя было миновать. С одной стороны, стратегия шокотерапии, при тогдашней разоренной казне и развалившейся машине власти, была на тот момент единственным реальным способом осуществить этот переход. Но, с другой стороны, именно к таким радикальным шагам абсолютно не были готовы ни широкие массы, ни лоббистские коалиции.
Поэтому жесткая финансовая политика в стиле чешских или польских преобразователей, которая одна могла сократить длительность и тяготы переходного периода, встретила общий протест и стала невозможной буквально с самого начала. Уже в первые недели после освобождения цен реформаторское правительство начало делать не то, что считало теоретически правильным, а то, что диктовала общественная атмосфера. И переходный период, с его лишениями, спадом и инфляцией, растянулся почти на десятилетие. Такая перспектива явственно наметилась уже на старте реформ.
Еще до их старта было видно, что вовсе не «команда реформаторов» получает решающее слово в политике и в машине власти. Эта команда, кстати, и не имела ни малейших оснований на такое слово претендовать.
Группа экономистов-гайдаровцев не обладала ни номенклатурным весом, ни мандатом народа и могла прийти в правительство только в качестве технических специалистов, приглашенных теми, кто такой вес и мандат имел, и только на то время, которое будет сочтено достаточным для выполнения порученной работы.
Это обстоятельство с самого начала подчеркивалось тем, что о предстоящих великих преобразованиях в октябре 91-го объявил именно Ельцин, неподдельный тогдашний национальный лидер, и притом не потрудился даже раскрыть, кому он предложит их осуществлять. Год с небольшим спустя команда реформ и ее болельщики удивлялись, что президент сделал ставку на другие фигуры, хотя удивляться можно было только их удивлению.
Логика реальной политики вытесняла их с командных высот. Реформаторы и реформы не завоевали ни одобрения номенклатуры, ни серьезной народной поддержки. Чуть больше половины голосов, отданных за «социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством» на референдуме в апреле 1993-го – лишь продукт бурно расцветавшего тогда российского пиара.
Как раз с 1993-го карьерные пути членов гайдаровской группы и разошлись. И роли, которые некоторым из них с тех пор довелось играть, бросили тень на тот романтический и первоначально вовсе не лишенный достоверности образ специалистов-идеалистов, жертвующих собой ради общественного блага.
Однако это вовсе не умаляет заслуг действующих лиц.
Ельцин лишь смутно ориентировался в правилах новой экономики, но само по себе понимание необходимости капитализма – это настоящий духовный подвиг для бывшего свердловского партсекретаря.
«Завлабы» из столиц плохо понимали чувства рядовых людей, но новые экономические идеи, которые они пытались осуществить, при всех изгибах своего воплощения, оказались все-таки поживее и посильнее старых.
Разумеется, реформаторы сами были детьми своего общества и вполне в духе советских начальников воспринимали это общество как объект властных манипуляций. Поэтому, например, доставшийся им от СССР огромный иностранный долг был ими признан без особых рассуждений насчет того, обоснован он или нет, зато примерно такой же по своему реальному весу долг перед собственными гражданами (в виде накоплений на сберкнижках) был обесценен и фактически списан. Никто из главных действующих лиц 92-го года так потом и не сумел признать, что этого нельзя было делать.
Но даже и при полной предусмотрительности шокотерапевтов этот шок не мог быть понят народом. Запоздалый с экономической точки зрения и преждевременный с точки зрения состояния умов, он был заведомо приговорен не только к непопулярности, но и к общественному осуждению, которое потом распространилось и на 90-е годы в целом.
Однако 90-е были годами (пусть скверно организованного и несколько раз временно обращавшегося вспять) все-таки движения вперед. А нулевые – это лишь эпоха грамотно организованного топтания на месте. Двадцатилетие великого решения – хороший повод, чтобы вспомнить, что политика может быть ареной для больших дел, а не только для мелкого жульничества.

 Цивилизация
Цивилизация