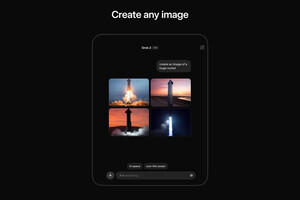То, что произошло двадцать лет назад, нельзя мерить меркой нынешнего политического убожества. Сегодня избиратели не могут, да почти и не хотят сами выбирать себе власть. Чтобы понять, почему, надо вспомнить времена, когда они захотели и смогли это сделать.
В конце мая 1989-го открылся первый (позднее оказалось — единственный) парламент СССР, избранный не понарошку, а всерьез. Две недели страна не отрываясь смотрела прямую трансляцию из Кремлевского дворца съездов.
События не только выглядели грандиозными, но и были такими на самом деле. После того как депутатский съезд был всенародно избран, а затем и всенародно показан, стало ясно, что единого народа в Советском Союзе как раз и нет. Как нет и общепризнанного политического режима.
Собравшись вместе, выборные представители всех краев державы объявили на весь мир и о том и о другом.
После этого разным частям империи уже ничего не оставалось, как пойти своим путем. Для одних это стало исполнением великой мечты, для других — исторической неизбежностью, для третьих — свалившимся на голову бедствием. Плоды свободы, как обычно и случается, не могли всем одинаково быть по душе.
Двадцать лет назад, в дни первого депутатского съезда, все это виделось еще не очень отчетливо, но то, что под прошлым подводится черта, сомнений не вызывало. Помнят ли об этом сегодня в России? Помнят, но не слишком прочно.
«Насколько серьезное влияние на дальнейшее развитие событий в стране оказал этот съезд?» Отвечая сейчас на этот вопрос Левада-центра, 27% опрошенных назвали это влияние «решающим» или «значительным»; примерно столько же (30%) особого влияния не отметили; но больше всего (43%) оказалось тех, кто вообще затруднился с ответом. Не знающих ответ сильно прибавилось бы, если бы респондентов еще и попросили рассказать, о чем шли споры на этом самом съезде и кто против кого шел.
Что и понятно.
Новейшая политическая история, предшествующая путинскому десятилетию, преподносится у нас как нечто такое, о чем не совсем удобно вспоминать.
Большинство из рожденных в те две недели политических звезд давно сошло со сцены. И, хотя сегодняшний наш политический режим напрямую происходит именно из событий конца 80-х — начала 90-х годов, он нисколько не гордится этой родословной. Не очень гордится сейчас своим участием в тех же событиях и большая часть тогдашнего депутатского корпуса — по крайней мере, те, кто избирался в России.
А ведь это был, наверное, самый удивительный коллектив в истории державы. В одном зале сидели глава советской политической системы Михаил Горбачев, главный критик этой системы Андрей Сахаров и будущий основатель новой системы Борис Ельцин.
Там же находились и большинство тех, кому предстояло составить первую обойму высших лиц в новых независимых государствах, — от Витаутаса Ландсбергиса до будущего Туркменбаши. Среди них и ныне действующие президенты Казахстана и Узбекистана.
И там же, рядом с основателями рождающихся политических элит, «все таланты» — сотни прославивших себя в науках и искусствах людей из всех краев государства.
Этот корпус действительно состоял из самых примечательных фигур, которых мог представить на прощание Советский Союз. Держава посмотрелась в зеркало, прихорошившись, насколько смогла, и увидела себя расколотой. Раскол был предопределен, хотя запуск демократических механизмов его и приблизил. Но они же помогли затем возвести более жизнеспособные структуры.
«У нас впервые состоялись свободные, конкурентные и честные выборы. Таких выборов не было и после 1989 года», — так сказал на днях Михаил Горбачев. Это и так, и не так. Прошедшие год спустя выборы российского съезда были более равными и более свободными. Но если бы не было выборов 1989-го, то они бы просто не состоялись.
А в 89-м только две трети депутатов избирались гражданами по округам. Остальных присылали общественные организации, контролируемые Компартией, хотя уже и не совсем прочно. Что же до прямых выборов, то в глубинке и в восточных союзных республиках они тоже сплошь и рядом были фикцией. Округов с одним-единственным номенклатурным кандидатом было около двухсот. А в каждом из остальных у партаппарата был свой фаворит, поддерживаемый если и не всей прессой, то уж полной мощью государственного ТВ.
По нынешним меркам этого должно было хватить, чтобы неплановых депутатов были единицы. Да и тех сегодня легко приручают.
А двадцать лет назад оппозиционных парламентариев оказалось довольно много, они держали инициативу в своих руках и влияли на движение событий сильнее, чем растерянное «агрессивно-послушное большинство».
Объяснялось это не только дарованиями и стойкостью тогдашних народных избранников, но гораздо больше — решимостью тех, кто их избирал, тех миллионов людей, которые почувствовали себя гражданами, кто видел банкротство старой власти и решил обзавестись новой, пусть и не очень ясно представляя, какой именно.
Выдуманного прежним начальством единого «советского народа» в наличии не оказалось, но во многих республиках Союза, и в России в том числе, заявили о себе собственные гражданские нации. А там, где на смену «населению» появляется народ, возможно и народоправство.
Зарождение демократии в России, пусть наивной, непрочной и оставшейся недостроенной, — это великое историческое достижение, которое не может быть ничем перечеркнуто. Гражданское сообщество России оказалось в тот раз слишком слабым, чтобы надолго себя сохранить, однако достаточно сильным, чтобы в 1990-м, всего через год после провала съездовской попытки обновить СССР, создать новый режим, уже в границах России, а в августе 1991-го — чтобы его отстоять.
Это было время гражданского и национального подъема, возвращения к людям собственного достоинства и веры в себя. От благородных стремлений не отрекаются. И тем, кто тогда пытался их осуществить, сегодня нет причин стыдиться, хотя слишком много надежд оказалось иллюзиями.
Уже несколько лет спустя гражданская демобилизация шла полным ходом — сначала стихийно, а потом и энергично направляемая властями.
В стремительно меняющемся обществе, в буре рыночного переворота, бесцеремонного обогащения меньшинства и оргии политических измен низы быстро потеряли способность к гражданскому сплочению. Зачаточные представления верхов о собственной подчиненности тем, кто их выбрал, были легко вытеснены старыми инстинктами и гигантскими новыми соблазнами.
А в нулевые годы реставрированная имперская риторика стала политическим наркотиком, подавляющим в людях интерес к домашним проблемам вообще и к любым формам самоуправления в частности.
Отсюда и равнодушие даже к тем выборам, где какой-то выбор еще остался. Настаивать на избрании «своего» мэра или депутата может местное сообщество, объединенное осознанием общих целей. А
массе не связанных друг с другом обывателей вполне достаточно просто побрюзжать по кухням по случаю присылки из центра очередного непрошеного начальника.
Но при всем при этом однажды проделанный демократический опыт уже не может быть ни полностью забыт, ни навсегда отброшен в сторону. Он всегда с нами. Включая и знание того, с какой стремительностью «население» способно превратиться в граждан.

 Цивилизация
Цивилизация