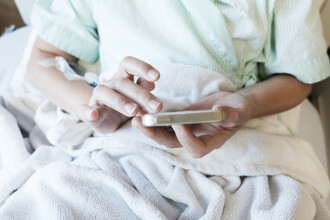Помните Монтескье: «Вы перс? Как можно быть персом?»
Блистательный француз вряд ли подозревал, что на самом деле его гротеск исчерпывающе характеризует восприятие европейцами не столько условной Персии, сколько вполне реальной России.
«Как можно быть русским?» Этот немой вопрос читался и до сих пор читается в глазах любого общающегося с вами европейца, включая ваших давних, близких друзей и единомышленников.
В этом вопросе нет никакого осуждения. Он выражает, скорее, недоумение фактом вашей принадлежности к той фантасмагорической реальности, каковой в его глазах выглядит Россия. И чем меньше, с его точки зрения, вы отличаетесь от среднего европейца, тем больше и, можно сказать, тем безнадежнее становится это его недоумение.
Говоря проще, Дмитрий Рогозин, пляшущий перед штаб-квартирой НАТО вместе с выписанным из России казачьим ансамблем, вполне органично вписывается в представления европейцев о русских в отличие от любого нашего соотечественника, безупречно владеющего каким-нибудь европейским языком и ничем не выделяющегося в толпе европейских столиц.
Именно здесь и следует искать ключ ко всем недоразумениям в наших отношениях с Европой.
При этом следует оговориться: та во все времена небольшая часть российского населения, которая имела контакты с Европой, знала и понимала ее намного лучше, если не досконально, по сравнению с представлениями о России самых блестящих ее знатоков в Европе. Правда, для нас это не имело никакого практического значения, ибо европейская политика России всегда была заложницей сознательного отторжения Европы российской властью – что самодержавной, что коммунистической, что «встающей с колен». Европа же, чье историческое воображение атрофировалось еще со времен Колумба, постоянно пыталась втиснуть российскую действительность в систему привычных для нее критериев, отбрасывая все те реалии, которые в восприятии европейцев не поддавались рациональной интерпретации.
Последний посол Франции в царской России Морис Палеолог, который, казалось бы, не должен был питать никаких иллюзий в отношении окружавшей его среды, был убежден, например, что война с Германией продлится недолго, поскольку русская армия быстро сломает ей хребет. Разочарование сделало его более прозорливым, и уже в мае 1917 года, насмотревшись на «адвокатишек, упивающихся собственным краснобайством в Таврическом дворце», он предсказал, что еще до конца года власть в России возьмут максималисты (большевики). Но это был глас вопиющего в пустыне – октябрьский переворот застиг Европу врасплох.
На советскую Россию Европа обиделась, прежде всего, за игру «не по правилам» — за сепаратный мир с Германией и особенно за нежелание выплачивать царские долги.
Зато в 1930-е годы, в самый разгар сталинских репрессий, интеллектуальная Европа увлеченно и сочувственно наблюдала за «первым в истории человечества социалистическим экспериментом», хотя любой человек, мало-мальски знакомый с традициями и психологией русского общества и с природой русской государственности, должен был видеть, что речь на самом деле идет о создании очередной российской деспотии.
Послевоенная Европа, долгое время находившаяся под эмоциональным обаянием подвига советских солдат, с чувством облегчения оставила попытки разобраться в смысле существования Советского Союза (России), воспринимая его как некую монолитную данность, которая буквально завораживала европейского обывателя своей диаметральной непохожестью на европейские представления о человеческом обществе. Она даже немного обиделась на Россию за «развенчание культа личности» и кратковременную «оттепель», вынудившую ее решать новый русский ребус.
Эту досаду на Россию, постоянно преподносящую Европе загадочные сюрпризы, точнее всех выразил бывший французский министр внутренних дел Шарль Паскуа, который в 1990 году устроил мне форменную выволочку за неудобства, которые принесла Европе горбачевская перестройка. «Посмотрите, что наделал ваш Горбачев! – говорил он. – Он нарушил привычный ход вещей! Он перетасовал всю Европу, с которой мы давно сжились и, главное, с которой мы знали, как себя вести. Он разрушил европейскую стабильность! В течение почти полувека мы в Европе жили рядом с неким, ну, скажем, айсбергом. Согласен, это было, если можно так выразиться, негативное образование, но, черт побери, мы, по крайней мере, точно знали, чего можно и чего нельзя от него ожидать! А теперь все рухнуло, и бог знает, когда и чем это закончится. Знаю, знаю, не трудитесь – вы сейчас, конечно, попытаетесь оправдать весь этот бордель напоминаниями о ГУЛАГе, о репрессиях и о других лишениях вашего народа, но, простите, молодой человек, это ваши проблемы. Нам это не мешало!»
А на фоне этого высказывания становится более понятной равнодушная реакция европейских политиков на призыв мудрого Лео Тиндеманса, тогдашнего бельгийского министра иностранных дел, который еще в 1989 году обратился к своим европейским коллегам с предложением вникнуть в существо происходящих на востоке Европы беспрецедентных процессов, с тем чтобы понять природу «назревающего там катаклизма» и выработать адекватную долгосрочную политику по отношению к его последствиям.
Тиндеманса никто не пожелал услышать, а
падение коммунистического режима было с восторгом воспринято в Европе как результат массовой демократической воли россиян. Когда же над вечным болотом российской общественной жизни снова стала затягиваться ряска, на минуту потревоженная камнем августовского путча, политическая Европа, так ничего и не понявшая, стала причитать об «отступлениях от демократии».
Искренне убежденная при этом, что судьба российской демократии глубоко не безразлична европейскому общественному мнению.
А вот сами европейцы к судьбе России глубоко равнодушны. Да и о чем им, собственно, беспокоиться, если они знают, что Россия баснословно разбогатела, что сегодня в ее крупных городах можно приятно провести время или даже пожить, не поступаясь привычным комфортом, и что она вроде бы не собирается воевать с Европой? Более того, им совершенно безразлично и то, что в самой России (как, впрочем, и во всем мире) думают о Европе и ее жителях, поскольку сами европейцы давно и уютно устроились в своем комфортном эгоцентризме.
Короче говоря, будет обидно, очень обидно. До зубовного скрежета. До нового всплеска ненависти к Европе и к Западу в целом. Но когда-нибудь придется все-таки признать, что европейцы не желают и никогда не желали России зла.
Это такая же аксиоматичная истина, как и то, что Земля вертится вокруг Солнца. Впрочем, зная сегодняшнее состояние российских умов, признание миролюбивости или, что еще более оскорбительно, приветливого равнодушия европейцев по отношению к России потребует гораздо больше времени, чем признание правоты Галилея. А до этого немало отечественных еретиков будет облито томатным соком, обвинено в работе на ЦРУ и подвергнуто публичному поруганию в балаганах «Наших» или «Местных».
Вообще-то, понятие о любви внешнего мира к нашей стране осталось нам в наследство от советской эпохи, когда все жители СССР истово верили, что мир, а точнее, мировой пролетариат и трудовое крестьянство не могут не любить страну победившего социализма. В наши дни этот синдром продолжает жить в российском обществе, но уже со славянско-православным надрывом.
Но сегодня в отличие от советских времен нам комфортнее думать, что Россию любят, скажем, в Венесуэле, в Индии и даже в Китае, но не любят в той же Европе, которая, кстати, вот-вот развалится. Впрочем, такого взгляда, как ни удивительно, придерживается не столько основная масса российского населения, сколько те, чье материальное положение позволяет им часто ездить в Европу и даже приобретать там недвижимость. Так им легче пережить отчетливое, но до крайности раздражающее сознание сравнительного несовершенства собственного общества, состояние которого объективно противоречит национальному мифу о вновь обретенном величии, а следовательно, и уверенности в собственной гражданской полноценности.
Наше сознание еще не приспособилось к социально-психологическим последствиям того самого катаклизма, о котором говорил Тиндеманс. Вспомним: всего лет двадцать тому назад даже коротенькая командировка в ту же Европу воспринималась как подарок судьбы, позволяющий хотя бы прикоснуться к европейскому ширпотребу. Кипятильничек и концентраты входили, как правило, в «джентльменский набор» советского командированного, помогая ему экономить скудные суммы конвертируемой валюты для приобретения лишней майки. В такой ситуации вникать в нюансы европейской цивилизации было незачем и некогда – достаточно было констатировать ее очевидное отличие от советского бытия.
Сегодня мы ездим в Европу по собственной воле, не будучи при этом стеснены в средствах. Но при этом мы по-прежнему не интересуемся общественным устройством европейских государств, относясь к Европе теперь уже с чувством пренебрежительного превосходства.
Так мы мстим Европе за былые унижения, которым подвергало нас наше же собственное государство.
…За несколько месяцев до августовского путча во Франции по линии общества дружбы Франция – СССР побывала советская делегация, состоявшая преимущественно из московских партработников и муниципальных служащих «ельцинского призыва». Практически для всех это был первый выезд за границу, и первый же их визуальный контакт с парижскими витринами вызвал у членов делегации, особенно у женщин, состояние, без преувеличения близкое к истерике. В таком угнетенном состоянии они пребывали во время нашего путешествия по Нормандии и Бретани. Катарсис наступил в Ренне, когда группа в очередной раз угрюмо констатировала, что товарное изобилие французской провинции ничем не отличается от столичного. И тут кто-то из членов делегации задумчиво произнес: «А если сюда дивизию наших десантников направить, что от этого изобилия останется?» Советская делегация радостно оживилась и после недолгого обсуждения сошлась на том, что для французов и одной нашей роты хватило бы, они ж и воевать-то как следует не умеют.
И с этого момента вплоть до отъезда в Москву советские гости пребывали в превосходном настроении, поглядывая на французские витрины со снисходительной жалостью.
Так что история действительно повторяется.

 Цивилизация
Цивилизация