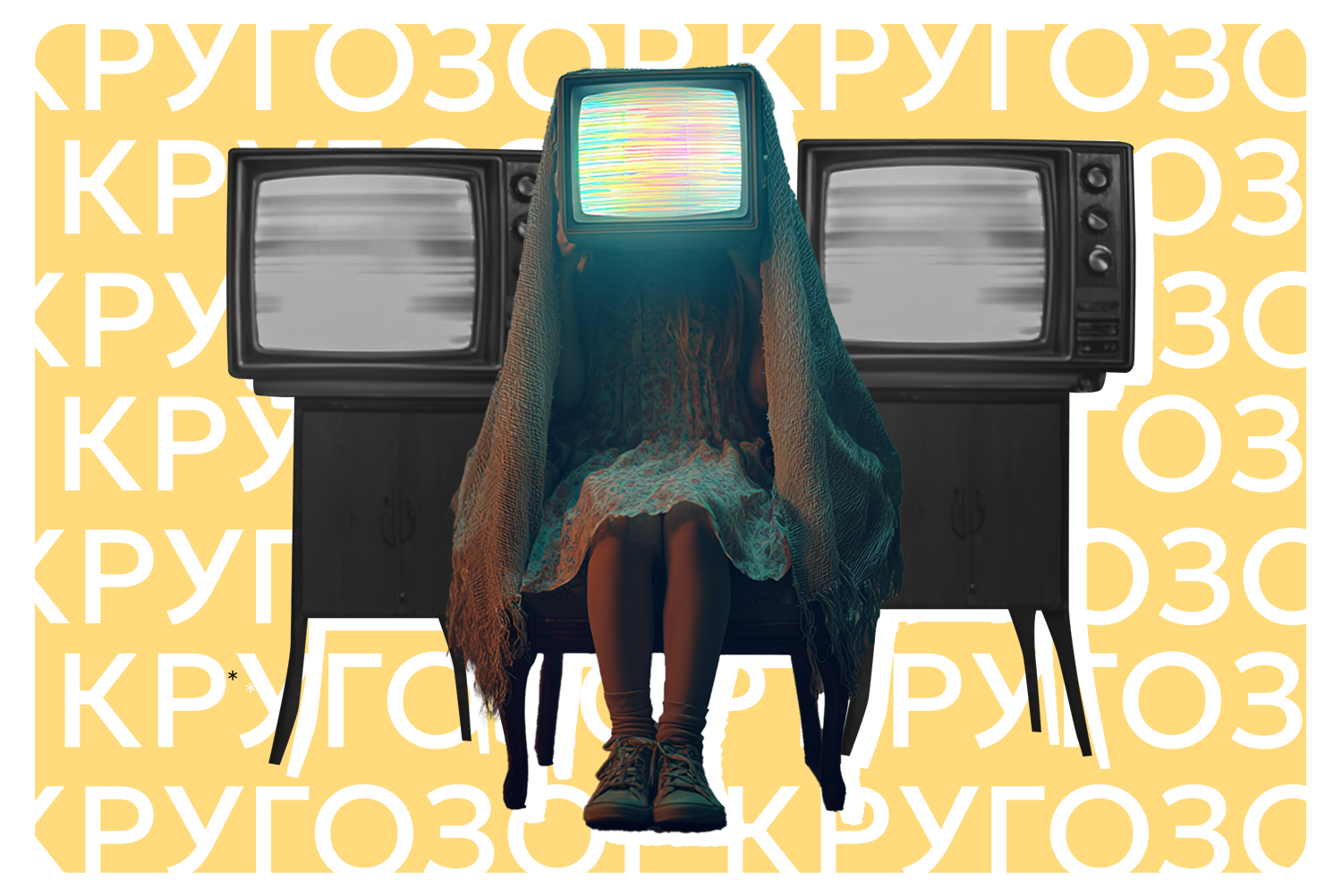Мы живем в интересное и неспокойное время. Арабская весна сменяется майданом, новости о «желтых жилетах» — сообщениями о погромах в американских городах. Протест считается легитимным по определению, стабильность отвергается как воплощение застоя и реакции. Слово «революция» в последние десять лет стало одним из самых широко употребляемых.
Однако у каждого слова — тем более научного термина — имеется значение, о котором не нужно забывать. Эта в общем-то банальная мысль снова пришла мне в голову в ходе недавней онлайн дискуссии вокруг только что вышедшей книги о революционных волнах, написанной известным отечественным социологом Николаем Розовым и его соавторами. В результате продолжительного исследования коллеги выделили на протяжении последних 500 лет 28 революционных волн и посвятили внушительный том их систематизации — спровоцировав с моей стороны довольно скептическую оценку.
Самому понятию «революция» немногим более трехсот лет: впервые в ныне привычном контексте оно появилось применительно к Славной революции 1688 года в Великобритании. С тех пор сфера использования термина только расширялась, распространяясь на все большее число социальных потрясений (в том числе и на те, которые завершались неудачей). Карл Маркс стремился четко разделять — концептуально и хронологически — революции политические и социальные; большинство современных авторов эти различия игнорируют. Так, Теда Скочпол определяет социальные революции как «быстрые базовые трансформации государственных и классовых структур общества, сопровождающиеся и частично осуществляемые через классовые восстания». Однако даже применяя эту классическую формулировку («отлитую» в конце 1970-х годов), к «социальным революциям» можно отнести, на мой взгляд, очень ограниченный круг событий.
Иначе говоря, мне кажется, что для понимания современного мира стоило бы радикально сузить трактовку понятия «революция» и вернуться к изначальному смыслу данного термина.
На мой взгляд, о революции следует говорить лишь применительно к тем событиям, которые либо ломают социальные и экономические структуры общества (как это было, например, в случае с революциями 1917 года в России), либо уничтожают политические инструменты защиты прежнего порядка после того, как экономически общество уже существенно изменилось (как в случае с Французской революцией 1789 года).
Если несколько упростить Марксову трактовку вопроса, то первые революции (pаr excellence, открывающие историю нового порядка) стоит называть социальными, а вторые (pаr excellence, подводящие черту под историей прежнего) — политическими.
При этом я воздержался бы от определения в качестве революций тех массовых движений, которые не достигли своего результата или не привнесли в жизнь общества больших перемен. Наконец, на мой взгляд, было бы правильно иметь в виду и тот факт, что история не развивается по прямой — и помимо революций случаются контрреволюции, иногда составляющие содержание целой эпохи.
Я прошу прощения за этот затянутый теоретический дискурс, но считаю его важным для обоснования главного своего тезиса — мысли о том, что мы на самом деле живем (увы и ах!) в «не революционную» эпоху.
За последние пятьсот лет в мире случилось, я бы сказал, всего две глобальных революционных волны. Первая, протекавшая с середины XVI до начала ХХ века, была периодом буржуазных революций. Разнообразие их форм поражает: иногда они случались в «чистом» виде (как в той же Франции в конце XVIII столетия); иногда накладывались на освободительные войны (как в Нидерландах эпохи освобождения от Испании); иногда примешивались к процессам национального самоопределения (как в 1848 году в Австро-Венгрии).
Фундаментальным результатом этих потрясений было, собственно, все то, о чем пишут теоретики революций: старые классы теряли политическую власть и собственность; сословное общество разрушалось; монархии упразднялись или становились в значительной мере номинальными; формировалась инновационная экономика, резко повышалась социальная мобильность. Происходил слом архаики и формирование структур современного (modern) общества.
Вторая революционная волна поднялась в конце XIX века и с перерывами продолжалась до 1960-х годов; ее фундаментальным отличием от первой был «проектный» характер: если революционеры прежней волны стремились уничтожить старые политические формы, мешавшие легитимации давно сформировавшегося нового экономического и социального порядка, то новые хотели реализовать умозрительные представления об идеале (который, как показала история, являлся, подобно любому абстрактному проекту, довольно убогим).
Характерным отличием этих волн было то, что первая затронула практически весь мир, утвердив на всех континентах евроцентричные буржуазные порядки в ходе того, что исследователи называют «всемирной вестернизацией». Тогда как вторая не смогла повторить подобного успеха, так и оставшись относительно маргинализированной.
Исходя из такой логики, я не вижу в последние полвека никаких «революционных волн» и сейчас попытаюсь объяснить, почему.
Прежде всего, отмечу, что конец ХХ века был ознаменован совершенно обратным трендом. Эта мысль пронзила меня в 1997 году, когда я, будучи в гостях у Дж. К. Гэлбрейта в его доме в Кембридже, пытался пригласить его в Россию на презентацию переведенной мной книги. Старый профессор, раздумывая об этом, неожиданно повернулся к своей жене и сказал: «Вообще-то, Кэти, стоило бы съездить — мы же с тобой не были в России после контрреволюции». Он так и не приехал, но мысль его кажется мне правильной: все так называемые «бархатные революции», как и советская перестройка, явились на деле демонтажом того неэффективного и негуманного общества, которое было построено как альтернатива капитализму.
Концепция «конца истории», выдвинутая в те годы Фрэнсисом Фукуямой, не столь уж и неправильна: конечно, история продолжается в контексте геополитического противостояния различных держав, но история революционной эпохи действительно завершилась.
Сегодня в мире нет обществ, которые либо переросли капитализм, либо готовы отринуть его и попытаться создать новый социальный строй; сложившаяся система, и в этом я глубоко убежден, воплощает в себе наилучший баланс прогресса и справедливости, который человечество может себе позволить.
С чем же мы сталкиваемся сегодня, что называем революциями? Действительно, социальные процессы продолжаются, и очень часто они выплескиваются в виде народных восстаний и бунтов. Между тем я бы обратил внимание на одну простую вещь: практически все подобные выступления последнего времени — от Туниса до Грузии, от Египта до Украины, от Ливии до Армении — представляются следствием нереализованности первоначальных трансформационных проектов, в ходе которых заявлявшаяся борьба против диктатуры приводила лишь к появлению новых форм ограничения свободы.
В некоторых странах для осознания этого и для мобилизации на борьбу потребовалось больше времени, в других — меньше, но нигде эти «революции» не изменили ни экономического базиса общества, ни его классовой структуры, а в очень многих случаях даже политической организации. Где-то быстро оформились откровенные контртренды (как в Египте), где-то развитие немного ускорилось (как в Украине) — но нигде эти народные выступления к революционным последствиям не привели.
Я вспоминаю, как уже находившийся в 2005 году в отставке Эдуард Шеварднадзе резко возразил мне, когда я, записывая с ним интервью, сказал что-то об «оранжевой революции» в Украине: по его мнению, попытка народа настоять на честном подсчете голосов ни в какой ситуации и ни при каких условиях не могла называться революцией. Я солидарен с этой точкой зрения.
И тут мы переходим непосредственно к сегодняшнему моменту, когда со страниц ведущих американских газет на читателя смотрят заголовки типа «Стоим ли мы на пороге революции?»
На мой взгляд, сегодня нигде в мире нет — и в ближайшее время не возникнет — никаких революционных ситуаций.
Да, есть примеры очевидных неравенства и несправедливости; имеются авторитарные режимы, жестко ограничивающие свободу подданных; существуют даже теократические диктатуры. Могут ли произойти серьезные политические потрясения и локальные восстания? Несомненно. Но не стоит надеяться, что они радикально изменят структуру существующих обществ.
Во многих странах — в том числе и в России — власти создают условия, когда легитимная смена режима с использованием демократических инструментов оказывается невозможной. Собственно говоря, начиная с середины 1980-х большинство «революций» представляют собой не что иное, как попытки на деле реализовать те принципы народовластия, которые, как это ни смешно, формально прописаны даже в основных законах соответствующих стран.
Указать правительству на его место и даже свергнуть его, если оно «обнаруживает стремление подчинить людей полному деспотизму» — значит осуществить, как записано в Декларации независимости США, «право и долг» гражданина. Однако в таких политических переворотах сегодня нет ничего революционного — напротив, они восстанавливают естественный ход общественного развития, а не модифицируют и тем более не прерывают его. Это явления сугубо политического, но никак не социального, уровня.
При этом следует заметить, что в наше время нарастает разрыв между революциями и революционностью. По мере того как почва для первых исчезает, стремление к бунтарству растет.
Люди болезненно ощущают несправедливость; активно ищут новых форм реализации прав и свобод; нормы общежития меняются намного быстрее, чем значительная часть общества готова это признавать. К тому же правительства в большинстве успешных государств повышают планку допустимых проявлений несогласия (я бы даже сказал, что этот показатель идеально говорит о современности того или иного государства и потенциале его развития) — просто потому, что именно проявления подобного протеста становятся важнейшим стимулом социальной и политической модернизации.
Если применить некое «техническое» сравнение, я бы сказал, что пламенные стремления несогласных, которые в прежние века зажигали костры революций, сегодня используются в двигателях внутреннего сгорания, подталкивая общества вперед, но не разрушая их. Революционность уходит в риторику и перформанс — и в этом, как мне кажется, состоит трагедия нынешних левых: обогатившись знаниями о прежних революциях и наблюдая современные несправедливости, которые кажутся им нетерпимыми, они не отдают себе отчета в том, что эпоха революций ушла навсегда вместе с крахом безответственного эксперимента по строительству нового мира, унесшего не менее 100 миллионов жизней.
Хорошо это или плохо? Я думаю, что вопрос не следует ставить таким образом. Времена меняются, и основные проблемы у человечества возникают не от того, что история продолжает свой бег, а от того, что кто-то пытается возомнить себя способным повернуть ее естественный ход…

 Цивилизация
Цивилизация