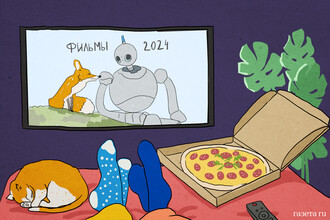Надо ли говорить, что Юрий Трифонов, чье 80-летие приходится на 28 августа сего года, — главный писатель эпохи застоя? Надо ли доказывать, что он был певцом советского городского среднего класса, чье время исчерпалось на рубеже перестройки -реформ, но который заложил основы одновременно и модели поведения сегодняшнего «миддла», и его собственности в виде «папиных» квартир в панельных домах, машин и дач? Надо ли обсуждать актуальность писателя, чье 80-летие кажется неправдоподобным, потому что он умер сравнительно молодым, а мироощущение сегодняшних людей, несмотря на всякую там постиндустриальную эру и произошедшую смену общественной формации, ничем не отличается от самоощущения его героев? Надо ли вспоминать этот волшебный, неподражаемый стиль, эти размеренные и выверенные, как спиричуэлс, зачины и концовки повестей и романов, этот ритм-и-блюз великой русской прозы?
«Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне… Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве. Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах, которых не существует, о том, как блестела до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья…»
Трифонов был в равной степени официально признанным писателем (достаточно вспомнить раннее начало — Сталинская премия!) и писателем андерграунда («Исчезновение», его последний роман, имел мало шансов на публикацию при жизни автора). В самом начале 1980-х я прочел в университете передаваемые из рук в руки студентами с «диссидентскими» наклонностями перепечатанные на машинке и склеенные самодельным переплетом «московские повести». А всего пару лет спустя начал выходить фундаментальный, болотных тонов, в твердом «худлитовском» переплете четырехтомник Трифонова с предисловием самого официального из самых официальных, capo di tutti capi, Феликса Кузнецова, согласно которому, автор тех самых «московских повестей» описывал не что-нибудь, а социалистическое строительство.
Впрочем, до известной степени и это было правдой. Юрий Трифонов был ранен на всю жизнь детской психологической травмой: арест отца, видного революционера и крупного чиновника, жильца Дома на набережной и дачника Серебряного бора, состоялся, когда будущему писателю еще не сравнялось 12 лет. Раздвоенность словно бы преследовала Трифонова в течение всей его биографии. Великолепие иофановской темно-серой громады напротив Кремля и жизнь изгоя, юного родственника врага народа. Многочисленные иностранные переводы, поездки за границу и неопределенность статуса в официальной советской литературе. Дача по соседству с Твардовским, в одном поселке с Нагибиным, Баклановым, Симоновым, Светловым (поселок на Пахре и по сию пору называется Советский Писатель, хотя цена сотки там сегодня скорее олигархическая, чем писательская) и, в сущности, как признавалась в мемуарах его вдова, несчастливая тяжелая жизнь. Неослабевающий интерес к историко-революционной теме и в то же время погруженность в психологию современного городского обывателя. Иногда разочаровывающая публицистика и головокружительной глубины проза.
До «московских повестей» у Юрия Трифонова был ранний вертикальный взлет, потом невнятица, естественная после первого слишком оглушительного успеха, закончившаяся тем самым описанием социалистического строительства — «Утолением жажды», спортивными статьями, рассказами, сотрудничеством с кожевниковским «Знаменем» и историко-революционными книгами, в частности, добротным и естественным для 40-летнего писателя жизнеописанием отца-революционера («Отблеск костра»). Гениальный Трифонов взорвался в «Новом мире» — сначала рассказами, которые поощрительно-снисходительно опубликовал Твардовский, не разглядев в них зародыш «серийной» прозы, а затем, в 1969 году, в самой затертой читателями книжке журнала, «Обменом».
Затертой, потому что поколение в принципе успешной в экономическом смысле концовки 1960-х годов, генерация советских людей, начавшая заселять новые спальные московские кварталы, формировать достаточно благополучный образ и стиль жизни в эпоху нефтедолларов и сама формироваться в то, что спустя всего несколько лет Солженицын назовет обидным словом «образованщина», узнала в героях повести самих себя. Как узнавала потом в «Доме на набережной», «Предварительных итогах», «Другой жизни», «Долгом прощании». А под самый финал жизни писателя — в его поздних рассказах, а затем и «Времени и месте».
Самое удивительное состоит в том, что характеры, переживания, жизненные и бытовые ситуации с небольшими конкретно-историческими поправками (ну, допустим, кафе «Пушкин» вместо ресторана ЦДРИ) легко экстраполируются в наше время: нынешний городской столичный средний класс с изумлением может узнать самого себя в персонажах четвертьвековой и 30–35-летней давности.
И Трифонов скажет ему о нем же больше, чем все «Большие города» с «Эсквайрами» и прочей бытописательской журналистикой, вместе взятые. У Трифонова вдоволь всего — даже, прости господи, секса. Его не было в СССР, но чувственность разлита в трифоновской прозе.
Главный Трифонов начался с периода застоя, открыл эпоху, описал ее базовую социальную среду — городскую «образованщину», и закрыл эпоху, закончив «Время и место», прекратив творческое и физическое существование. Ппоследние слова романа: «Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения».
Поскольку бытописателя масштаба Трифонова сейчас нет, сегодняшней «неообразованщине», составившей основу современного городского среднего класса (с той же мотивацией, инстинктами, образом жизни, что и 30 лет назад), вполне можно довольствоваться трифоновскими описаниями. «А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон… засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу — гибель, с каждым годом все гуще. Ляля удивляется. «И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повырастали?» И это не 2005-й, а 1971 год!
Все закончилось тем, что проза Трифонова не устарела, пережив исторический перелом последних 15 лет, а приобрела двойную, тройную антикварную ценность. Причем она из таких антикварных вещей, без которых невозможно обойтись.
Юрий Валентинович Трифонов нашел свое место в сегодняшнем времени. А для особых ценителей остался его ритм-и-блюз: «Спустя несколько минут он проезжал мостом чрез реку, смотрел на приземистый, бесформенно длинный дом на набережной, горящий тысячью окон, находил по привычке окно старой квартиры, где промелькнула счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна перемена в его жизни?..»

 Цивилизация
Цивилизация