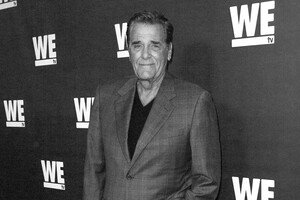Еще несколько лет назад я вел совсем другую жизнь: ложился спать поздно, вечера проводил в излишествах (не уточняем — сейчас не об этом речь) и считался светским человеком, то есть ходил по открывавшимся тогда каждый день так называемым клубам, шумным заведениям для молодежи, где выпивал и общался с одними теми же, встречавшимися везде, такими же, как я, светскими людьми. Теперь и здоровье вместе с возрастом ограничивают, и занят больше, и просто надоело – не хожу почти никуда.
И вдруг на днях оказался на Мясницкой поздно, во втором часу ночи: шел из популярного среди модной московской интеллигенции места, клубного ресторана, отмечавшего уже – подумать только! – свой трехлетний юбилей. Как бывшего завсегдатая пригласили — время было, я и пошел. Народ собрался все тот же, будто трех лет не прошло, все так же пили, о том же говорили, даже плясали, пренебрегая протестами организмов. Но мне уже было совсем невесело, неинтересно и от весьма избранного общества никакого удовольствия не получал: отвык терпеть. Так что много раньше других я покинул бал, вызвавшись проводить приятельницу, милого человека, удачливую художницу моего поколения.
Мы шли по старой, хорошо мне памятной с древнесоветских времен улице Кирова – жил тогда в этом районе,— и я не мог поверить своим глазам. Улица при всем московском своеобразии ее дореволюционной банковской и советской министерской архитектуры напоминала что угодно, только не Москву. За последний год в ее дворах и переулках, на прилегающем Чистопрудном открылось множество заведений богемного толка, и теперь окружающее напоминало отчасти Сохо (нью-йоркское, а не криминально-мрачное лондонское), отчасти Лейстер-сквер в Лондоне, а более всего – парижский Латинский квартал, бульвар Сан-Мишель и окрестности. Из каждых дверей, из каждой подворотни вываливались веселые, модно и забавно, как следует по моде, одетые компании. Некоторые тут же втягивались в следующее кафе, метрах в двадцати, или бар, или ночной ресторан, другие набивались в машину, чтобы ехать куда-нибудь подальше, но тоже явно не по домам, а продолжать... Машины ползли по улице плотной чередой, притормаживая перед гуляками, их фары еле заметно мерцали в сыром воздухе, потому что улица была залита ярким светом витрин и вывесок. Чайно-кофейный магазин-пагода, называемый москвичами с 20-х годов «чаеуправлением», стоял в реставрационной прозрачной сетке, словно подарок в обертке...
Как положено пожилым людям, мы с приятельницей беседовали о наступивших временах и, как положено людям просвещенным и космополитической ориентации в быту, радовались появлению московского квартала ночной жизни – уже не только усталыми девушками вдоль Тверской и Ленинградского она представлена, слава Богу, а нормальным художественно-ресторанным районом, как в любой мировой столице.
И вдруг приятельница, никогда, насколько я знаю, политикой не интересовавшаяся, поскольку ей везло при любой власти и политика не интересовалась ею, произнесла такое, что я даже не сразу понял.
«Говорят, когда он бывает в гарнизонах... ну, вообще, у военных или у этих... он поднимает тост, – она передернулась, хотя вряд ли в шубе почувствовала, что к середине ночи начало примораживать, – поднимает тост за Сталина. И все пьют стоя...»
С полминуты я соображал, кто такой «он».
Потом попробовал успокоить даму: да какая разница, за кого он пьет — хоть за Ивана Грозного, хоть за Петра Первого, уже ничего не изменишь, Мясницкая будет сиять огнями и гулять по ночам, никого и ничего не тронут, отнять добытое можно только большой силой и кровью, а на это уже никакой поклонник Сталина не пойдет, да и сил не найдется, расстрельщики-энтузиасты перевелись, слава Богу, их другие энтузиасты и выбили, а сами перемерли, так что бояться нечего...
И вдруг замолчал, почувствовав, что вру.
Я вспомнил, что днем прошел другой слух, причем на уровне газетном: государство скоро начнет регулировать нефтяные цены. Объяснить спутнице, какая связь между этим и офицерскими тостами, я бы не смог, но зябко сделалось и мне, мороз полез под куртку и крепко ухватил меня стальными пальцами.
Охота прогуливаться и беседовать прошла. Я тормознул оказавшийся под рукой BMW, подсадил тоже смолкшую приятельницу, водитель согласился везти, даже не вступив в обычные переговоры «А на сколько вы рассчитываете?» – «А сколько вы хотите?» – «Нет, вы скажите, сколько дадите», и мы поплыли по бульварам, в рекламных зарницах миновали Пушкинскую, вывернули на круглосуточно забитую Mercedes Тверскую.
Попрощавшись с подругой у двери ее мастерской, я снова погрузился в теплое автомобильное нутро, коротко попросил: «На Белорусскую» — и уже совсем задумался.
И еле расслышал, что бормочет владелец дорогой германской машины, пробираясь среди других дорогих машин по прекрасному ночному городу.
«Бардак,– вот что он шептал, обращаясь не то что ко мне, а скорее к своей душе или, возможно, к любителю тостов за вождя,– развели бардак... что с Россией сделали...»Тут он заметил женскую тень на обочине: «Молодые девчонки... раньше бы ей постояли так...»
Обнаружив, что я прислушиваюсь, он заговорил громко:
«Говорят, по двести баксов берут. И красивые есть (он вздохнул), а где ж по двести баксов набраться? Я раньше никогда не платил. Ну, в ресторан сводить, я понимаю, но платить... Что с Россией сделали, а?»
Я не стал ему говорить, что скоро цены на нефть будут государственные и все наладится: Mercedes и BMW исчезнут вместе с колбасой и джинсами, закроются рестораны и магазины, эти девушки уедут на БАМ и целину, а те из них, кто останется, снова будут довольствоваться ужином, и ночная Москва снова станет темной, пустой, и из подвалов будет тянуть гнилью, и в центре перестанут строить...
Мне не хотелось его радовать. Молча я дал ему сотню за полчаса езды и, захлопнув дверцу, пошел к своему подъезду.
Вот проклятые слухи! Испорчен вечер, а ведь начинался неплохо. Хотя и скучновато.

 Цивилизация
Цивилизация