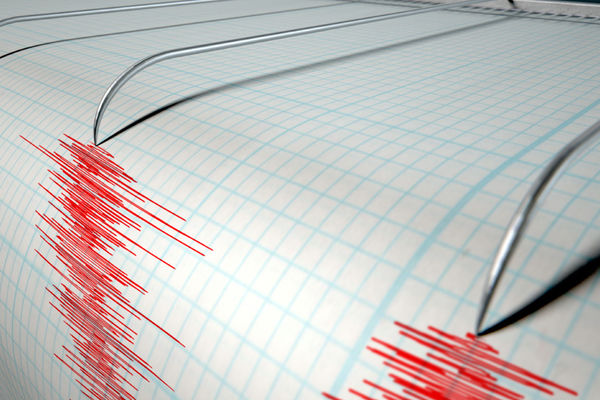В последние дни снова крутится в голове давно заезженная насмерть цитата. Сколько уж раз изумлялся, откуда у поэта такая социально-политическая точность и как он мог описать ситуацию на столько лет вперед, и снова изумляюсь. «Мы живем, под собою не чуя страны...»
Понадобился октябрь 93-го года, чтобы понять: мы, готовые на все, лишь бы советская власть не вернулась, составляем в стране абсолютное меньшинство. Раз и навсегда стало ясно: коммунисты здесь были действительно народной властью. И какими бы впредь ни были результаты «демократических» выборов, настоящая демократия здесь была, когда выбирали одного из одного; когда был нерушимый блок коммунистов и беспартийных; когда на выборы шли, приняв ради такого праздника в шесть утра, потом наслаждались самодеятельностью и добавляли в сквере за Дворцом культуры под вынесенные из праздничного буфета быстро остывающие сосиски. И те считанные проценты, которые спасли нас в 96-м от победы трудящихся, никакой действительности не отражали – по-настоящему убедительно получилось в марте нынешнего, когда вялого и осторожного коммуниста победил кандидат гораздо более советский.
Но нас ничто ничему не учит, страна по-прежнему где-то далеко, и мы не чувствуем ее, а доносящиеся оттуда, из этих битком набитых трюмов, голоса сливаются для нас в невнятный гул, и мы не можем разобрать отдельных слов...
Разговор с этим мужиком у нас начался с гимна, потому что тут как раз по радио передали, что питерский губернатор Александрова запомнить может, а Глинку – никак. Мужик закурил, помолчал, глядя перед собой, резко перекладывая скорости дряхлой 24-й «Волги» с чистеньким и разукрашенным пленкой под дерево салоном, и высказался в том смысле, что хрена ли обсуждать: гимн есть гимн, пели «союз нерушимый» – и был союз, а теперь бардак.
Дальнейшая наша дискуссия продолжалась известным образом, так что приводить мои аргументы не стоит: все будет ясно из его части диалога. Конечно, колбаса всюду есть, а хрена ли толку, если люди ее купить не могут. Вон у меня тетка в Тульской области, так они и хлеба теперь не видят. А у нас и при Брежневе всегда колбаса была — сосед в гастрономе грузил, так мы и карбонат на праздники свободно брали, и у всех в холодильниках было навалом. А теперь кто это все покупает? Одни черные. Тогда они мандарины на Новый год привозили, а теперь всю Москву захватили... Строят, конечно, а хрена ли в этой стройке — одни банки, а мы как получили в 66-м в Бескудниках «распашонку», так и живем, и ремонта уже пять лет не было... А по телевизору что показывают? Одно американское кино, и песни то же... И Березовского никогда не посадят, и других этих, которые все у народа украли, а вон у соседки парню восемь лет дали за то, что подрался с «азерами», не выдержал. Им ничего, а ему восемь лет... И наше все лучше, а продают только импортное...
Тут я уже просто озверел, потому что как раз у него скорость не воткнулась, «Волга» прыгнула и едва не заглохла, он, едва не вырвав, передернул-таки рычаг, и с грохотом, с натугой мы поплелись дальше, обгоняемые «нексиями» и старыми «пассатами». «Что ж,— спросил я,— и машины наши лучше?» «И машины,— убежденно ответил он.— Раньше-то их наши собирали. Вот моей 28 лет, и ничего, а теперь, конечно, на ГАЗе на конвейере одни вьетнамцы, вот и выходит хренота, а за мою 24-ю мне никакой иномарки не надо, я ее всю вот этими весной перебрал».
И я сдался. Он победил по всем позициям, вести спор дальше было бессмысленно. Он остался жить в своем мире. Там все было хорошо, пока была настоящая народная власть, там платили пенсии, запускали Гагарина, давали заказы на праздник и позволяли брать все из-под прилавка в будние дни, там местком регулировал очередь на квартиры и машины, там можно было поехать с передовиками в Чехословакию и купить колготки бабе и болоньевую куртку себе, там была правильная жизнь. Никакой хрен с бугра не обгонял его на иномарке, разве что прижимал к обочине гаишник и проносились мимом членовозы – так это ж было не обидно, потому что если он даже не понимал умом, что там сидят такие же, как он, в меру ленивые, в меру вороватые, хорошо пьющие мужики, свои, только начальство, то чувствовал это. Там все было правильно устроено. Именно так, как устроил бы он сам, просто если бы зависело от него, то гаишники прижимали бы других, а в членовозе сидел бы он сам...
Но тут совсем страшная мысль заставила меня еще раз сбоку приглядеться к этому представителю народа, согласившемуся за полтинник подбросить меня с Белорусской на Сокол. «Какого ж ты года, командир»,— спросил я. «Шестидесятого»,— сурово ответил народ. «А откуда ж у тебя «волгарь» с 72-го?» «От отца,— так же сурово ответил он,— отцу на работе распределили». «А как же ты так хорошо помнишь, что было во времена Брежнева, к примеру,— уже почти в крик продолжал допытываться я,— если никакой пенсии, и никаких заказов праздничных, и никакой закуски в холодильник ты тогда не добывал, а получал исключительно пары и трояки в школе, и Гагарина-то запустили, когда ты пеленками мамашу мордовал за неимением памперсов, так бы тебя и так?!!»
Он, не отвечая, курил. Потом раздавил бычок в забитой и так до краев пепельнице, прокашлялся упрямо. «А чего тут помнить,— сказал он,— это и так все знают. Раньше справедливо жили, а теперь что? Что заработал, то и твое».
И все стало ясно. Они еще споют свой гимн, дождутся своей справедливости. Опросы показывают, что 70% за советскую музыку. Теперь впервые за десять лет им может показаться, что появились основания надеяться.
Мы замолчали уже окончательно и в непримиримой классовой вражде доехали до места. Там он получил мой грабительский полтинник и, подрезая через все ряды, рванул к своему светлому будущему – в туннель.

 Цивилизация
Цивилизация