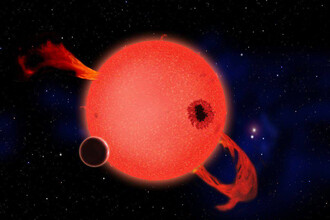Заранее было известно, что спектакль идет почти пять часов. Что год назад в Вене, где была премьера «Мастера и Маргариты» — очередного русского романа Касторфа, до того поставившего «Бесов» и «Униженных и оскорбленных», — множество зрителей в раздражении покидали театр уже в антракте. Что на другой день гневными и яростными рецензиями были забиты газеты, превращая спектакль одного из самых знаменитых европейских режиссеров в настоящий скандал. Все то же было и у нас: толпы зрителей, переполненный зал доронинского МХАТа, отряды возмущенных, уходящих вон в антракте многочасового действа, восторженно аплодирующее меньшинство в финале. А уж насчет рецензий скандализованных критиков – будьте уверены. Не сегодня-завтра Франк Касторф, пятидесятидвухлетний уроженец ГДР, глава знаменитого берлинского «Фольксбюне», лауреат премии «Театральное чудо» и многих других – получит от российской прессы по полной программе.
Правда, наше восприятие очередной бомбы чеховского фестиваля сильно отличается от европейского. Речь идет о романе действительно культовом, текст которого всякий отечественный зритель знает наизусть. И в тех местах спектакля, где запутавшийся австриец впадал в прострацию, русский зритель с досадой ловил всякое несоответствие роману.
Но по порядку. Инсценировка Касторфа строится на том, что события советской и библейской частей романа существуют параллельно, перетекая друг в друга, в них играют одни и те же актеры. Для режиссера вторые личины булгаковских москвичей – просто вариант развития тех же судеб в иных условиях. Для него принципиально, что, например, Иван Бездомный в своей библейской ипостаси — это Левий Матвей, а Берлиоз – Каифа.
Но самое неожиданное — то, что в роли Иешуа оказывается вовсе не Мастер, как можно было бы предположить, а мелкий поэт Рюхин.
Мастер у Касторфа становится Пилатом. Эта идея существенна для режиссера, в увесистой программке ее даже подтверждает статья Бориса Гройса, где Булгаков трактуется как автор, пишущий только для одного читателя – Сталина, рассчитывающий только на его понимание, и в сущности родственная ему душа. Автор, властвующий над языком, оказывается поэтической ипостасью тоталитарной власти.
Реплики из обеих частей романа «гуляют» по инсценировке: то, что только что было произнесено в пивной «стекляшке» за бильярдом, через пару минут повторится во ершалаимском дворце Ирода. Булгаковская Москва выглядит как современный европейский город, заставленный небоскребами и забитый иномарками. Сатанинская компашка кажется бандой средней руки с пошловатым паханом Воландом — седым ловеласом в ужасном атласном халате в цветочек, с голдой на шее и в вечной ковбойской шляпе. Войдя в «банду», Маргарита — со своей яркой помадой, разрезами до пупа, в блондинистом парике и с визгливыми истерическими интонациями – становится стопроцентной шлюхой. На Мастере, которого играет знаменитый Мартин Вуттке, кожаная куртка и вместо шапочки — бейсболка с буквой «М». Все смешалось и перепуталось.
Разница в две тысячи лет не важна для Касторфа, как не важна для него ни собственно христианская тематика, ни конкретность сатиры, ни история любви – постановщик здесь решает для себя другие, экзистенциальные, проблемы. Возможно, изживает в себе комплексы гэдээровского прошлого.
Но даже более важной, чем странное, двусмысленное двойничество, для этого спектакля оказывается вещь технологическая – видео. На сцене — сверкающий неоном стеклянный павильон какого-то общепита со светящейся надписью «I want to believe». На его крыше – огромный экран, куда проецируется то, что происходит за стенами павильона. А за его стенами остается практически все: резиденция прокуратора, Голгофа, сумасшедший дом, каморка Мастера. За его стенами жизнь современной Москвы, окруженный джипами особняк где-то в арбатских переулках, где живет Маргарита, полеты над ночным городом, в которых от ударов молотка ведьмы рушатся огромные небоскребы. Но видео – это не записанное заранее кино. Дрожащая и мечущаяся картинка показывает то, что действительно происходит сейчас там, за сценой: бывает, брызги из ванны Пилата попадают на объектив видеокамеры и капли стекают по стеклу, дробя изображение. Бывает, герой из древней Иудеи или прямо из душа в доме скорби вдруг через какую-то заднюю дверь, словно туннель, прорубленный во времени и пространстве, влетает в «стекляшку», на минуту исчезая с экрана, берет что-то из холодильника и вновь «вбегает» на экран.
Зрители беспокоились: а театр ли это вообще, коли уж половину времени сцена стоит пустая, а действие происходит на экране, коли почти не слышны «живые» голоса, а разговоры в «стекляшке» усилены микрофонами. Но это был театр. И «грязное», как будто не выстроенное видео, только подчеркивало его природу.
Невероятно крупный план, какого никогда не увидишь на сцене, соединился с той самой живой сиюминутностью, изменчивой и полной случайностей, которая и составляет главную привлекательность театра. Иногда оператор даже появлялся на сцене, и тогда на экране возникало крупно то, что зрители и так видели за стеклом.
Знаменитое умение немецкого театра дойти до предела торжествовало в полной мере: герои на экране и на сцене без конца раздевались, демонстрируя обыденные, некрасивые тела, вымазывались с ног до головы тошнотворной жидкой грязью и мылись кровью в душевой кабине, вызывая в зрителях омерзение. Полюбить этот спектакль было нелегко. Да он и не слишком был рассчитан на непосредственную реакцию публики, тем более на сочувствие, которое у нас ставят выше всего. Это был в некотором смысле интеллектуальный мультимедийный аттракцион, то захватывающий, то затянутый. Его интересно было рассматривать, обнаруживая все новые тайные ящички-возможности, о нем интересно было думать и, уж конечно, не следовало сличать с первоисточником.

 Цивилизация
Цивилизация