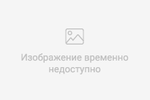Гимнастический козел застелен кружевной скатертью, спортсменка в клетчатом переднике перепрыгивает через него, стараясь не опрокинуть расположившуюся на снаряде кастрюльку с супом. Следом другой кадр: дама в трико делает депиляцию, ее лицо в этот момент — воплощение спортивной собранности, выдержки и терпения.
Так, рифмуя спорт и быт, античный идеал с рутиной, турчанка-феминистка Нильбар Гюреш с помощью кухонной пластики говорит о положении женщины в исламском мире.
В ГЦСИ показывают часть национальной австрийской коллекции, которую государство специально сформировало для вывоза за рубеж: гастролирующая по миру выставка уже побывала в Мексике, Хорватии, Италии, Македонии, Турции, Франции, Боснии и Герцеговине и на Кубе.
Два десятка современных австрийских авторов (чуть не половина из которых, правда, мигранты) подбирают художественный шифр к реальности, надламывают ее структуру. Вместо того чтобы громоздить собственные миры и заниматься их шлифовкой, они выступают в жанре комментария на злобу дня.
Причем делают это без крайностей искусства, замаскированного под социальную программу, рупор политики или пылкую гражданскую лирику.
В результате получаются внятные и остроумные, не срывающиеся на визг высказывания о том, как строить отношения с действительностью, не скатываясь в оголтелый радикализм и обличительство.
«И вот взрыв — ба-бах! И весь фальшивый лес взрывается, и только дряблые кусты остаются» — сколоченный из деревяшек лозунг Зигги Хофера (взятый, кстати, из психоделического чешского мультфильма про крота) вполне мог бы стать манифестом выставки. Именно из этих «дряблых кустов» — шествий несогласных, дискриминации, отчуждения труда мигрантов и одурманивающего мира медиа — произрастает большинство произведений.
Для Хофера текст — это клей, который сдерживает крошащуюся реальность в привычных рамках.
Рядом с ним Катрин Больт демонстрирует остатки «фальшивого леса»: конструктор из стульев и спаянных за ножки столов на лужайке среди кустов — вторжение рукодельных декораций в природу. Ее же проект «Обнимая статуи» — фотографии памятников падшим воинам и сказочным персонажам, на которых радостно нависает сама Больт, опрокидывает миф, мраморных кумиров в тактильную, предельно земную среду, где все и всех можно потрогать, обнять, облизать.
Идея срастить искусство и жизнь, которую кураторы выставки прозвали «художественными моделями взаимоотношения с окружающей действительностью», на самом деле не так проста. Реальность тут распадается на пространство фантазий, сцену, голую жизнь, очищенную от оценок и наслоений культурных смыслов, медиафантомы.
Радикальнее всего с этой зыбкой субстанцией обращается Леопольд Кесслер: в ГЦСИ он представлен документацией акции «Перфорация калибра 10 мм», образцовым примером психологического партизанинга, нелегальной интервенции в городскую среду. В общественном пространстве, считает Кесслер, искусство должно быть не совсем опознаваемо. Поэтому
художник бродит по улицам и кусачками оставляет на дорожных знаках и автобусных остановках небольшие дыры — как от пули.
Несуществующие выстрелы тревожат прохожих так же, как это делают эксплуатирующие террористическую горячку СМИ. Медиа обгоняют жизнь. Художник — и то, и другое.
В похожий карнавал массмаркета реальность превращается у Ирис Андрашек: она фотографирует утомленных зомби-обывателей, которые, как в церковь, плетутся в магазин, рассчитывая на спасение и праздник духа.
Ответ на вопрос, зачем тащить политику в искусство, дает Ханнес Цебедин.
Снимая протестную демонстрацию в Риме, он фокусирует взгляд на случайно забредшей туда собаке.
Художественном материалом, таким образом, становятся не лозунги и транспаранты, а случайный участник событий — персонаж, вынесенный за пределы повествования и одновременно оказавшийся его центром. Акция протеста же так и остается необязательным фоном.
Даже единственная, казалось бы, эскапистская видеоработа Марии Ханенкамп (снятое в упор церковное одеяние священников, которое течет и меняется, как орнаменты у Густава Климта) оказывается гимном декоративности религии, ее овеществлению.
Такое искусство взаимодействия невозможно без диалога. Оно подкупает именно отсутствием авторской сконцентрированности на себе, иногда лобовой, но все-таки работой со средой, вовсе не всегда предполагающей, например, отрезание ушей — как у Петра Павленского. Среда, правда, довольно часто съедает личность, от которой, кроме комментария, ничего не остается.

 Цивилизация
Цивилизация