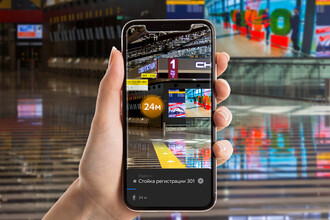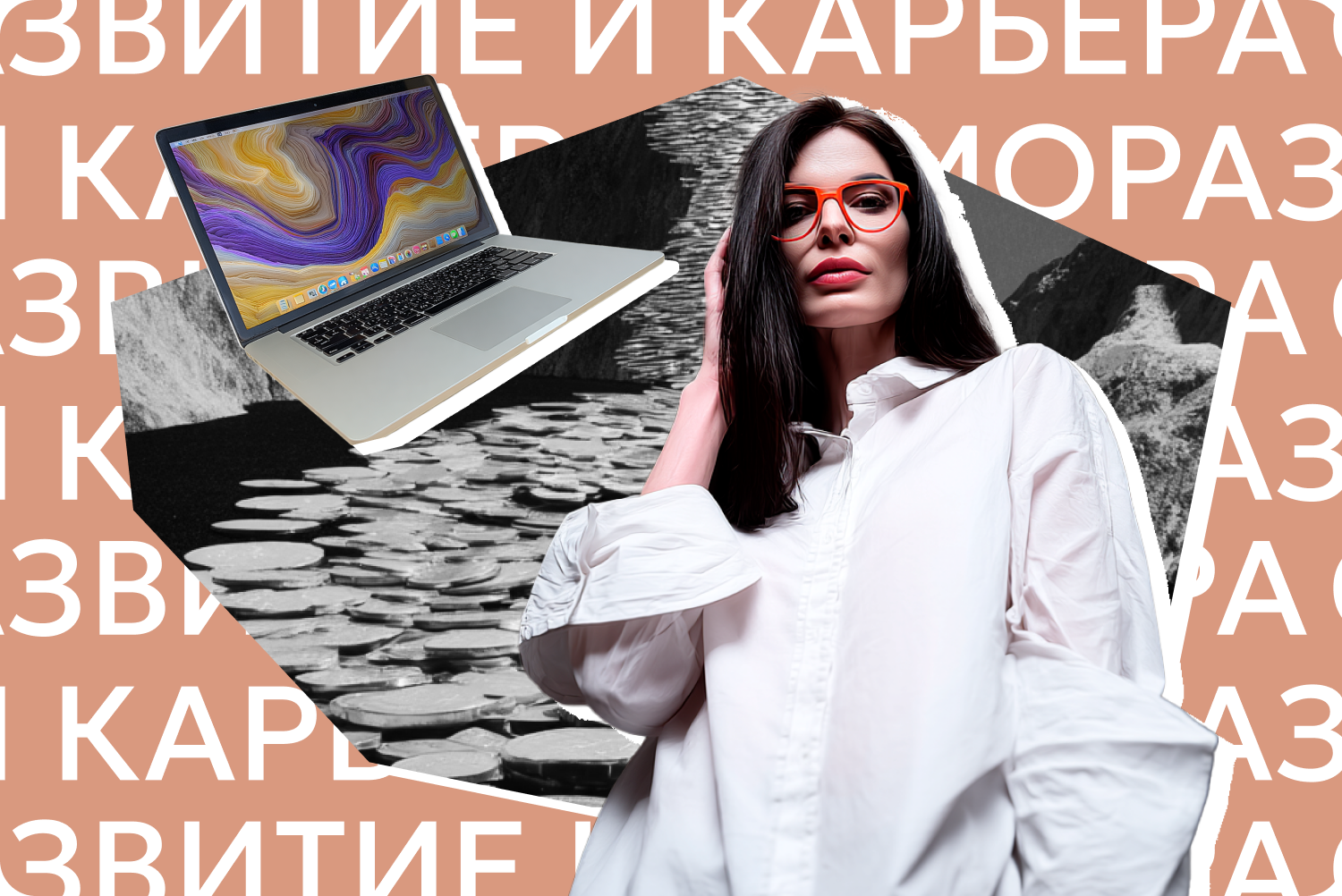В 1970–1980-х тбилисский художник Омар Чхаидзе рисовал яйцеголовых Мадонну с младенцем и Лао Цзы. Тонкие карандашные линии, вписанные в абстрактное цветастое пространство фигуры и лики, заимствованные не то у художников Раннего Ренессанса, не то у Вермеера, были результатом его размышлений над религиозными сюжетами и тонкими материями. В 2000 году художник открыл свою галерею в ЦДХ в Москве.
Примерно в это же время он выбросил предмет из своих картин, чтобы освободить цвет от надоевшей, старой формы, и обратился к чистой абстракции.
Его картины «Вознесение», «Вечность» и «Мистерия Голгофы» представляют собой сгустки света, которые растекаются по полнокровной черной поверхности. Они призваны заполнить собой глухую бездну, но это происходит далеко не всегда.
В ММСИ показывают тридцать картин Чхаидзе, над которыми художник работал последние годы. Его сегодняшние работы одновременно похожи на традиционную китайскую живопись бамбука и кухонные календари. В некоторых из них можно узнать черную решетку Пита Мондриана, в других — пустоты Барнетта Ньюмана и цветные, контрастирующие друг с другом полосы Малевича. Абстракции Чхаидзе, как и работы его предшественников, приглашают зрителя в иное, невизуальное измерение, но не имеют силы затянуть его туда.
От выставки с названием «Трансформация света» ждешь экспериментов в духе Джеймса Таррелла — американца, создающего свои произведения из искажающих пространство световых лучей. Но Чхаидзе предпочитает передавать внутреннее свечение — изначальный импульс живописи исключительно через цвет.
Со временем его тоска по метафизике, сиреневой дымке и совершенным формам переросла в так называемую «эстетику света», изрядно сдобренную такими категориями, как «Абсолют», «божественная энергия» и «Вечность».
Обожествляя, подобно язычникам, свет, Чхаидзе не создает своей мифологии. Он рисует сакральный мир, но остается ослепленным своей же теорией идолопоклонником, а не жрецом. Идеальные, отмеренные по линейке полосы, лоск и блеск делают его картины красивыми.
Но это красота интерьера буржуазной гостиной, а не сияющей вечности.
Чтобы подсветить свои картины изнутри, он накладывает десятки прозрачных слоев акрила, пигмента и лака так, что из-под одного слоя краски проглядывает другой, а из-под него — еще один, и еще. На выходе художник получает отполированную, глянцевитую поверхность с претензией на глубину. Однако, затеяв игры с чистым, всепожирающим белым цветом, который, собственно, и олицетворяет свет, и трансцендентным, Чхаидзе не выдержал и сам себя загнал в рамки глянца.
Из-за этой техники все фобии и мании художника, которые, казалось бы, должны световым потоком хлынуть на зрителя, остаются торчать внутри картины — выглаженные и блестящие.
Дело тут не в умозрительных теориях и не в технике, а в навязчивом ощущении, которое подавляет мысль о высоких материях. В картинах Чхаидзе тесно и пахнет строительным лаком. Его ничем не ограниченный белый цвет очень обременителен и тоталитарен. В картине «Пробуждение» 2007 года, например, он демонстрирует все, на что способен. Выродившись в одну-единственную кляксу, как бы невзначай упавшую на цветастый холст, белый разбивает композицию и нарушает ее ритм.
Интересно, что бы случилось с полотнами еще одного абстракциониста — Марка Ротко, если им добавить немножко лоска, как у Чхаидзе? Они перестали бы работать, перевоплотившись в добротные, качественные фотообои. Все же свет, вынужденный пробиваться сквозь пространство глянца, напоминает энергосберегающую лампочку, а не небесное сияние.

 Цивилизация
Цивилизация