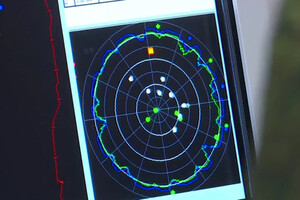Персеваль – один из режиссеров, за последние десять лет превратившихся из неугомонных бунтарей в признанных лидеров мирового театра. Главные спектакли, которыми прославился Персеваль, – радикальные интерпретации классических драм, от Расина и Шекспира до Чехова и Артура Миллера. Во всех его постановках по знаменитым авторам действие длилось, за редкими исключениями, не больше двух часов, сюжет максимально спрессовывался, а тексты переписывались до неузнаваемости, изрядно насыщаясь современным сленгом и зачастую грубо обнажая глубоко запрятанные драматургами смыслы.
В последние годы Персеваль, кажется, чуть потерял былую мощь. Его «Вишневый сад», показанный на «Сезоне Станиславского», казался лишь бледным эхом лучших работ режиссера, ему не хватало драйва и неистощимой выдумки. В октябре в Санкт-Петербурге на фестивале «Балтийский дом» прошел еще один из новых спектаклей Персеваля, «Братья Карамазовы», который и вовсе многим показался редким в Европе островком театра, традиционного до анахронизмов.
Тем удивительней было теперь увидеть «Там, за дверью» — спектакль, будто бы поставленный не 55-летним, а 20-летним режиссером.
Немецкого драматурга и писателя Вольфганга Борхерта у нас почти никто не знает, а вот в Германии он очень известен. В 1941 году начинающий поэт и актер был призван на войну и отправлен под Смоленск, а затем трижды арестован за свои высказывания о Третьем рейхе. Он воевал в штрафбатах, и вернулся в родной Гамбург тяжело больным, умерев через два года после войны, когда ему было всего 26 лет.
Пьесу «Там, за дверью» Борхерт со всей очевидностью писал про себя – солдата поневоле, насмерть раздавленного пятой войны и диктаторской власти, вернувшегося домой после пережитого ужаса и оказавшегося вообще никому не нужным.
Но на спектакле Персеваля быстро забываешь, что он поставлен по пьесе, написанной 65 лет назад, и что у этой пьесы есть биографическая основа. Персеваль полностью вырывает этот и без того довольно условный текст из быта, помещая его в вакуум вне времени и пространства, делая историю о гибели утратившего смыслы человечества и состоянии мира сегодняшнего, а совсем не послевоенного. История отдельно взятого немецкого солдата для него остается только формальным поводом к спектаклю.
На сцене лишь один предмет декорации — но какой!
Гигантское зеркало наклонено, оно угрожающе нависает под колосниками, отражая черную пустоту пола и поворотного круга, стены зала и лица зрителей.
Пространство перевернуто, искривлено, разломлено. Здесь не знаешь, на что смотреть: пол ли становится стеной, или стена делается полом. В зеркале кажется, что актеры ходят по вертикали, а сами они выглядят мелкими фигурками, копошащимися как муравьи. В версии Персеваля вполне можно подумать, что пьесу написал совсем не Борхарт, а Кафка и Достоевский, решившие заняться сотворчеством.
В пьесе Борхарта – целых 16 действующих лиц, часть из коих наделены многосложными наименованиями, вроде «Фрау Хламер, которая просто фрау Хламер, и это самое страшное».
В спектакле Персеваля число персонажей сильно сокращено, и играют их всего три актера, причем один из них, кажется, носит чисто техническую функцию. Солируют на сцене только два человека: актер, музыкант и рок-певец Феликс Кнопп вместе с 70-летней актрисой Барбарой Нюссе.
Нюссе здесь играет сразу всех антагонистов главного героя, бывшего солдата Бэкманна. Она – и женщина, спасшая его от гибели при попытке броситься в Эльбу, и страшный полковник, командовавший им на войне, и директор кабаре, куда тот безуспешно пытается устроиться, и даже сам старик-Бог. Впрочем, различия этих персонажей вполне условны: Нюссе играет скорее земное воплощение смерти, мгновенно меняющей личины, но сохраняющей свою суть. Она протяжно цокает выпяченными губами – и этот звук напоминает одновременно капли дождя, тиканье маятниковых часов, поступь полчища мертвецов, надвигающихся на Бэкманна в страшном видении, и удар копыт лошадей апокалипсиса.
Герой Нюссе – как многоликий Мефистофель, который пытается поймать заболевшего амнезией Фауста, забывшего, кому и когда продал душу, и оттого неспособного ее вернуть.
Герой Кноппа тоже выходит далеко за рамки пьесы Борхарта. Привязка к той, самой страшной, войне остается, но уже не воспринимается буквально. Бэкманн у Персеваля – абстрактный человек XX века, прошедший через горнило самых страшных его ужасов, сопричастный к жутким преступлениям и не умеющий вернуть себе право на жизнь. Он выговаривает, вышепчивает, выкрикивает, выпевает свою скорбь, но никто не слышит его вопль отчаяния. Он то и дело принимается петь специально сочиненные для спектакля зонги в брехтовском духе. В своих песнях он взывает к Богу, точно зная, что его давно нет. Это бунт против всего и вся, но заведомо обреченный, бунт, единственный смысл которого – выплеснуть свой гнев, выплакать свою боль. Кнопп-Бэкманн то и дело конвульсивно носится по сцене, взрезая пространство безумными движениями, издает протяжный крик-вой, мало похожий на человеческий.
Единственные, кто населяет этот мир вместе с ним, – дети с синдромом Дауна (участники актерской студии для людей с ограниченными возможностями, постоянно сотрудничающей с театром «Талия»). Они окружают его со всех сторон, внезапно выползая из-под зеркала. Бегают вокруг и громко, очень громко выкрикивают его имя, которое он так хотел бы забыть. Преследуют тенями миллионов жертв войны, вину за которую он считает в том числе и своей собственной.
Лихо танцуют под его песни – это и есть те полчища кровоточащих мертвецов, которые видятся Бэкманну в кошмарах.
Бэкманн лежит посреди сцены в луче света, прижимает к себе микрофон, беспомощно ворочается вокруг своей оси – и в зеркале кажется, будто он кувыркается в невесомости. Он навсегда лишен опоры в мире, где даже гравитация утратила силу.
Ближе к концу дети и другие занятые в спектакли актеры лягут на сцене по кругу, словно распятые; поворотный круг придет в движение и станет вертеться в гигантском зеркале, как неостановимая центрифуга смерти.
Бэкманн будет стоять перед ними в полной беспомощности. Даже права на смерть у него нету. Свои финальные слова – «Почему все молчат? Почему? Неужели некому ответить?» — он сначала привычно выкрикнет, а потом устало повторит уже в наступившей темноте, которая не рассеется больше никогда.

 Цивилизация
Цивилизация