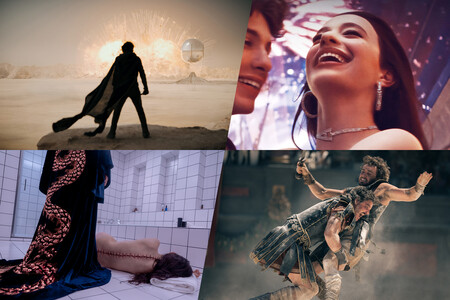Подружки с энтузиазмом оценивают парней, замечая, как симпатяга Тома (Жереми Лаэрт) из выпускного класса заглядывается на Адель (Адель Экзаркопулос), но та срезает: «Не Брэд Питт же» — вот и весь разговор. Кажется, сложная природа переживаний героев романа Пьера Мариво «Жизнь Марианны», который разбирают на уроках литературы, интересует ее больше, чем потенциальные ухажеры. Когда же после пары прогулок и разговоров хороший, как выясняется, парень упрекнет Адель в том, что она его избегает, та ответит поцелуем — не объяснять же, что по дороге на свидание увидела девушку с синими волосами (Леа Сейду) и потеряла покой.
В следующий раз Адель увидит незнакомку в гей-баре.
Между первой и второй встречами случатся хаотические попытки понять себя через новый опыт, после — открытие нового мира: неспешные беседы, светлые улыбки, несмелые прикосновения, решительный шаг.
Про это кино можно написать что-нибудь восторженное о чувственности и о том, как любовь подбирается волнами, чтобы вдруг накрыть с головой — ни вздохнуть, ни вынырнуть — и увлечь на такую глубину, о которой слышал не раз, но и представить не мог, какая она.
Всепоглощающая, теплая, синяя. Выбросит такая — будешь покачиваться на глади, приходя в себя.
Комикс Жюли Маро, по которому Абделатиф Кешиш («Увертка», «Кус-кус и барабулька», «Черная Венера») снял свой фильм, так и назывался: «Синий — самый теплый цвет» (Le Bleu est une couleur chaude). На 18-летии Адель звучит песня со словами: «Я, я следую, я следую за тобой. Глубоководное дитя, я следую за тобой». Ну или «малышка», а не «дитя»: «I, I follow, I follow you. Deep sea baby, I follow you».
С некоторыми словами удобнее играть, чем с другими, а героиня и режиссер любят литературу, особенно Мариво, которого Кешиш выделяет из современников за виртуозность и стиль. Но слова слишком покладистый инструмент для вчитывания в них любого личного опыта, в кино же подменить один опыт другим сложнее, тем более когда оно апеллирует к интенсивному чувственному восприятию.
Камера вглядывается в лицо героини, в ее губы, когда она говорит, молчит, ест, спит, приближается к оргазму, достигает его.
Казалось бы, Кешиш добивается присутствия жизни в кадре, но что-то сбоит в мельчайших деталях: так едят именно в кино, когда хотят показать жизнь во всей ее полноте. Это не наблюдение за реальностью, но ее тщательная реконструкция со всеми причмокиваниями, мычанием и облизыванием пальцев и столовых приборов. Замена глянцевой эстетики на реалистическую ничего не меняет: те же стереотипы в другом ракурсе. «Посмотрите, какая она живая!» — говорят нам.
С сексом еще сложнее, чем с едой: он тоже очень живой.
В разговорах о том, как режиссер добивался этой живости, уже копья сломаны. Эти долгие сцены (одна, например, длится десять минут) реалистичны, ничуть не скучны, не затянуты, и секс отличный, даже слишком. Казалось бы, странно обвинять постановщика в том, что слишком хорошо все на экране. В то же время сложно отделаться от ощущения, будто показывают высокохудожественное, в меру современное представление в меру консервативного автора о том, как должен выглядеть акт любви между двумя юными и прекрасными созданиями.
При этом нет оснований не верить, что в однополой любви для Кешиша важна не гендерная проблематика, не лесбийская тема, а собственно любовь, механика и органика ее возникновения и развития.
А еще его беспокоит социальное неравенство и интересует то, что и как едят люди.
Буржуазные устрицы и хорошее белое вино — открытость прогрессу, в том числе в области сексуальной свободы. Мещанские спагетти болоньезе и какое-то красное — простота, предрассудки и консервативные страхи. И наоборот: в жадном насыщении макаронами много жизни, а потребители устриц могут в них и захлопнуться, вцепиться в стенки и крепко держаться за свою картину мира. Любую символическую систему можно интерпретировать до абсурда, а Кешиш выбирает пограничный язык: с одной стороны, каждое действие равно себе, с другой — тут полно литературных и художественных аллюзий, социального и культурного подтекста.
В какой-то момент кажется, что это будет фильм о том, как классовые различия оказываются сильнее самого лучшего секса.
Ура, это не так — или не совсем так, не в лоб. Первая любовь хрупка и может стать жертвой множества обстоятельств, их комплекса. Кто-то забывает о смелости своих порой наивных суждений и норовит превратиться в домохозяйку. Кто-то не желает признать право другого на простоту, ждет от другого раскрытия потенциала, то есть, не отдавая себе отчет, требует соответствовать. Кто-то слишком юн, чтобы знать, что делать в кризисной ситуации. Кто-то перестает справляться с новой для себя ролью ведущего, а не ведомого.
Лучшее в фильме и истории любви — необъяснимое. Как необъяснима паника, охватывающая Адель, когда все видимые опасности позади: знакомства с родителями прошли без эксцессов, богемные друзья Эммы в восторге от юной музы, возлюбленным, открыто живущим вместе, уже не надо ни от кого прятаться.
И вот тут Адель становится испуганным зверьком.
Кешиш точен, когда вскрывает неочевидную, потаенную жестокость того, кто, утратив любовь, вместо того чтобы признаться в этом хотя бы себе, подталкивает другого к ошибке, к проступку, чтобы снять с себя ответственность. Кешиш совершенен в том, как за три часа экранного времени превращает Адель из несколько неуклюжей девочки-подростка в желанную, но все еще беспомощную перед внутренними и внешними противоречиями женщину.
Но ему словно этого мало. С одной стороны, жизнь без прикрас. С другой — синяя скамейка под розовой вишней. Синий дым карнавала в синих тонах, которым оборачивается митинг против всего плохого и за все хорошее. Синие глаза школьника на фоне синей стены. Синий лак на ногтях школьницы на фоне синей сумки. И, контрастом, что-нибудь красное. Вообще русских метафизиков, а также видных представителей иранского поэтического кинематографа не так давно не щадили за бирюзовые хлебницы и персики в саду.
Кешиша как-то не с руки бить за синеву: он ее так последовательно тащит в кадр, рифмует со спорами о красках и чувственности у Климта и Шиле.
Вот-вот спорящие забросят обсуждение декоративности первого и психотичности второго, чтобы сойтись на том, что никого нет лучше Ива Кляйна, обладателя патента на яркую смесь ультрамариновой краски с синтетической смолой, художника, в процессе создания полотен которого вымазанные в синем обнаженные женщины таскали друг друга по холстам. Нет, Кляйна не будет, это тоже доведение до абсурда.
То, что фильм Кешиша, который победил в Канне, чаще и единодушнее многих других победителей называют шедевром, не случайно и справедливо.
Шедевр — это нечто образцовое, это лучший экземпляр воспроизводимого объекта, то есть какая-то вещь, доведенная в производстве до технического совершенства. То есть одна из разновидностей общих мест. И в этом смысле единодушие по поводу Кешиша может не сильно отличаться от единодушия по поводу Кристофера Нолана (нет ни в критике американской, ни в англоязычных film philosophy и film studies более популярного режиссера) или «Аватара» Джеймса Кэмерона, в котором опять же хватало синего.
Кешиша роднит с ними то, что в музыкальной критике называется перепродюсированием: он выверяет цвета, добивается от актрис подлинности, а на выходе получается доведенная до болезненного совершенства картина большого художника о природе. Натюрморт то есть даже, а не пейзаж или портрет. Природа этого обмана зашифрована уже в названии первоисточника: синий — не самый теплый цвет, синий — самый холодный.

 Цивилизация
Цивилизация