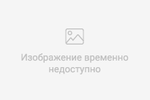Тех, кто питает непоколебимую уверенность, будто главное в изобразительном искусстве – это литературный сюжет, всегда большинство. Никакие увещевания не помогают: многие продолжают считать, что вне разборчивого повествования живопись превращается в бессмысленный хаос. И наоборот, если имеется нарратив, то остальные художественные доблести заведомо факультативны: могут присутствовать, а могут и нет, без разницы. Бороться с таким пониманием искусства трудно, поскольку оно зачастую связано с особенностями психофизики. Кому-то медведь на ухо наступил, и он не слышит в музыке ничего, кроме простейшей мелодии, а кто-то способен различать в живописи только литературное содержание.
Зрителям из этой категории выставка Евгения Дыбского категорически не рекомендуется, хотя она представляет собой отнюдь не набор сугубо абстрактных форм.
Сюжетная линия здесь налицо: автор интерпретирует фрески Джотто ди Бондоне, которые сами по себе очень даже понятны любому, кто знаком с евангельской фабулой. «Введение во храм», «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» – ничто не требует специальных комментариев. Тем более композиции из капеллы Скровеньи в Падуе и из церкви Сан-Франческо в Ассизи абсолютно хрестоматийны; отдельные мизансцены опознаются широкой публикой без всяких подсказок. То обстоятельство, что Дыбский эти сюжеты фрагментирует и переиначивает, никого смущать вроде бы не должно: и не такое видали в эпоху постмодернизма. Однако художник в данном случае не предлагает «игру в классики» или еще какие-то сценарии, подразумевающие кокетливую перекличку с джоттовскими идеями. Евгений Дыбский затевает вполне серьезный разговор на тему сегодняшнего восприятия живописи как таковой.
Великий предвестник итальянского Возрождения взят им на роль далекого легендарного мэтра, чьи уроки следует истолковать заново, с учетом минувших столетий.
Собственно, замысел развернутого диалога с Джотто возник после того, как автор повторно посетил знаменитую капеллу Скровеньи – уже по окончании реставрации, длившейся с середины 1990-х до 2002 года. Сравнение прежнего впечатления от фресок с тем, которое было получено в «восстановленном» интерьере капеллы, привело художника в шок: он посчитал, что оригиналы загублены. И взялся наводить собственную «связь времен», встроив цикл, навеянный «туристическим вариантом» росписей, в многолетнюю живописную серию Translation of Time. Причем целью проекта было отнюдь не стремление вернуть публике «истинного» Джотто: эксклюзивный опыт общения с первозданными образами навсегда принадлежит падуанцам XIV века, потомки же заведомо лишены полноценного контакта с подлинником. Зато им достается «слепок старины», подернутый патиной и подразрушенный временем, который, по Дыбскому, обладает немалой ценностью.
Внутренняя полемика с реставраторским глянцем и ввергла автора в пучину реминисценций, где Джотто лишь подстрочник, вернее, предыдущий слой палимпсеста, поверх которого можно наложить свою версию развития живописи.
Это важный пункт в понимании того, что представлено сейчас в залах ММСИ. Впопыхах можно упрекнуть Евгения Дыбского в беспочвенных фантазмах на тему чужой гениальности, к тому же еще и облеченной в религиозный формат, что дополнительно насторожит блюстителей благочестия. Но речь тут совершенно не о том, чтобы извратить прекрасное и покуситься на святое. Фрагменты джоттовского пейзажа, узнаваемые очертания евангельских персонажей, даже ангелы с округлыми углублениями вместо голов – это все не о литературном сюжете, с чего мы и начали рецензию, а о «жизни фактуры», о разрастании первоначальных колоритов, о проблеме плоскостного и трехмерного в изображении, о «животворящем старении» живописной поверхности.
Автор уверяет: «Я отринул патетику и начал работать с материалом». Ему вполне можно верить, поскольку результаты говорят за себя. Технология фресковой росписи подразумевает, что сырая штукатурка впитывает краску и поверхность стены остается почти гладкой, а у Дыбского сплошь щербины, трещины, корпусные маски, проступающие холщовые текстуры и тектонические неровности эмульсии.
Ну что тут общего с Джотто, кроме «подсунутых» зрителю хрестоматийных кусочков?
Местами даже и они не распознаются, настолько художник увлекается своими интерпретациями. И все же сквозная смысловая нить нигде не потеряна: живопись тоже, как и стихи, может расти «из сора», из утрат и недопониманий, случившихся в прошлом, даже из едва различимых руин. Такая почва Евгению Дыбскому представляется чрезвычайно плодородной, во всяком случае, это заводит его куда больше, чем возможность сфоткать благополучные отреставрированные фрески – «прямо как настоящие».
Разумеется, не стоит воспринимать его художественный жест в качестве протеста против существующих методов сохранения культурного наследия.
Это несколько иная парадигма: скорее внутреннее желание докопаться до механизмов регенерации искусства, чем манифестация «варварства». Стоит вспомнить, что в фундаменте той самой капеллы Скровеньи лежат камни из древнеримского амфитеатра, чьи обломки до сих пор можно обнаружить по соседству. А совсем рядом, буквально в двухстах метрах, в церкви Эремитани публике демонстрируют другую капеллу, разрушенную при бомбардировке в конце Второй мировой. Там были когда-то фрески Андреа Мантеньи, они почти не восстановлены – слишком мелкими получились осколки. Открылся бы люк бомбометания долей секунды раньше или позже, глядишь, и от знаменитого творения Джотто остались бы только воспоминания. Но из-за подобных ситуаций, возникающих в истории человечества с нехорошей регулярностью, связь между искусством разных эпох все же не обрывается. Художнику свойственно ковыряться в прошлом и генерировать идеи для будущего, одно другого не отменяет. Пожалуй, в этом и заключается главное содержание Giotto Project. Но без патетики, как и было сказано.

 Цивилизация
Цивилизация