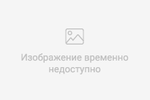Прижившийся в русском языке французский термин nature morte, то бишь «мертвая натура», искусствоведы любят риторически противопоставлять английскому синониму still life, подразумевающему «тихую жизнь». На практике, конечно, лингвистическая разница между двумя этими определениями жанра нисколько не влияла и не влияет на умонастроения художников. Наделять ли духом мертвую материю или нет – вопрос, скорее, из области подсознания, нежели концепции. А вот что безоговорочно можно отнести к неотъемлемым признакам жанра, как бы он ни именовался, так это выраженную связь между объектами изображения и человеческими эмоциями.
Не бывает натюрмортов, которые бы не подталкивали зрителя в сторону определенного настроения – хоть гедонизма, хоть меланхолии. И в этом смысле формулировка насчет «тихой жизни» выглядит все же убедительнее «мертвой натуры».
Хотя изображения отдельных предметов, не включенных в более развернутую и «нагруженную» композицию, встречались еще в античную эпоху, в самодостаточный жанр эта традиция трансформировалась не так уж давно, около четырехсот лет назад. И едва ли не решающую роль в том процессе сыграли предки нынешних экспонентов – голландские художники, работавшие по заказам буржуазии. Так что современные фотографы из Нидерландов имеют право ощущать себя прямыми наследниками Абрахама ван Бейерена, Виллема Калфа, Франса Снейдерса, Яна Давидса де Хема и других славных представителей голландско-фламандской натюрмортной школы. Чтобы у публики не оставалось в этом никаких сомнений,
устроители выставки позаимствовали из ГМИИ имени Пушкина три полотна кисти старых мастеров – «Аллегорию вкуса» де Хема, «Цветы» ван Гелдера и «Рыб и зайца» ван Бейерена.
Эта ретроаллюзия должна была послужить своего рода камертоном для всего остального – вообще-то не имеющего технологического отношения к живописи.
И правда, некоторые из молодых фотографов, подбором которых для тематического проекта занимались кураторы из Музея фотографии Амстердама (FOAM), демонстрируют что-то вроде приверженности давней натюрмортной эстетике. Хотя приверженность эта выражается отнюдь не в следовании канонам, а в игре с ними. Например, дуэт Мориса Шельтенса и Лисбет Аббенс в серии «Букет» оперирует тем же принципом, который был популярен в XVII веке, когда художники нередко конструировали цветочные композиции на холсте из растений разных сезонов. Натуралистичность изображения контрастировала с немыслимостью «сюжета», поскольку, в отсутствие оранжерейной культуры, эти цветы никак не могли оказаться в общем букете.
Шельтенс и Аббенс утрируют старинный прием, доводя барочную красоту своей флористики до нарочитой компьютерной неестественности.
Найдутся здесь и другие примеры «игры в классики», но по преимуществу участники выставки базируются все же на установках второй половины ХХ века, принимая в расчет идеи поп-арта, концептуализма и «бедного искусства», а также упиваясь ироническими трансформациями образов рекламного глянца. Едва ли не самой яркой иллюстрацией такого подхода к натюрморту выступает работа Мелани Бонайо «Ханна», где
обнаженная героиня увешана символами прозаического быта наподобие гладильной доски, термоса и вентилятора.
Это уже и не «тихая жизнь», и не «мертвая натура», а визуальный памфлет по поводу общества потребления. Еще более гротескны в своих видеоработах (как видите, фотографический формат в сознании голландских кураторов легко расширяется до видеоарта) участники дуэта Lernert&Sander,
заставляющие чемоданы скрещиваться с туфлями, а бутылку шампанского вступать в драматический конфликт с куриным яйцом.
Впрочем, если присмотреться и вдуматься, то целый ряд здешних произведений, впопыхах зачисляемых зрителем в категорию сатирических или абсурдных, следовало бы мысленно вернуть в сферу «все-таки натюрмортов». Игра игрой, но иногда медитативная завороженность авторов своими объектами перевешивает иронию. И тогда работы вроде
слайд-шоу Уты Эйзенрейх «От Т до Т», где подвешенные на ниточках предметы сменяют друг друга с невычисляемой закономерностью,
воспринимаются уже не как дизайнерские гэги, а как аллегории в духе прежних vanitas, в которых голландские художники посредством бездушных объектов напоминали о бренности бытия. Пожалуй, новое поколение, прибегающее к передовым технологиям и ратующее за оригинальность сюжетов, все же не свободно от воспроизводства некоторых «старомодных» конструкций.
Иной раз такое происходит чуть ли не помимо авторской воли, в силу чего возникает даже подозрение насчет архетипичности ряда схем, использованных некогда голландскими, да и не только голландскими, живописцами. Таким образом, к намеренной, вполне осознанной, но по-своему трактуемой преемственности добавляется еще и преемственность спонтанная, почти внезапная.
Цифровая камера в руках вместо карандаша или кисти вовсе не означает, что «культурное наследие» превращено в архив, прибегать к которому можно по собственному усмотрению. Порой бывает и наоборот: наследие использует современного автора ради своих загадочных намерений.

 Цивилизация
Цивилизация