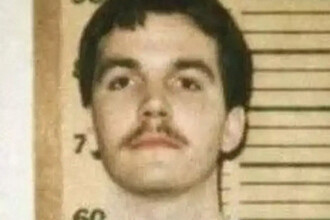Привычка определять место того или иного автора в искусстве путем навешивания коротких, будто бы емких ярлыков зачастую приводит к искажению истинной картины. Это вполне относится и к Павлу Никонову, чье имя в сознании публики неразрывно связано с «суровым стилем». Никакой ошибки здесь, конечно, нет: Никонов действительно был одним из лидеров направления, противопоставившего прежнему соцреалистическому официозу новую эстетику изображения «человека труда». Однако не стоит забывать, что уже с конца 1960-х этот художник двигался по иной траектории, все более расходившейся с линией хрестоматийного «сурового стиля».
Можно даже сказать, что искусствоведческая бирка, выданная Никонову много лет назад, давно уже ничего не проясняет в его творчестве, а только вводит в заблуждение.
Но и те зрители, кто не выпускал из виду реальную эволюцию этого живописца, едва ли могут похвастать полнотой понимания всех оттенков. Отчасти это связано с собственными воззрениями автора на проделанный путь: для публичных показов обычно отбираются те произведения, которые сам Никонов считает важными и характерными. Немалая часть творческого багажа всегда оставалась за рамками его ретроспективных выставок. На этот раз вышло по-другому. Кураторы галереи «Ковчег» взялись формировать состав экспозиции по своему усмотрению, договорившись с художником, что тот не будет влиять на ситуацию. Нетрудно предположить, что подобный сценарий был воспринят Павлом Федоровичем как смелый эксперимент и даже как тяжкое испытание, однако договоренностей он не нарушил.
Нынешняя выставка — это «взгляд постороннего», сугубо кураторская версия ретроспекции.
Впрочем, радикальной трансформации привычного образа художника здесь не произошло. Скорее, следует говорить о перестановке некоторых внутренних акцентов. К примеру, фокус внимания переведен с крупных холстов (их на выставке не очень много) на форматы более камерные. Жанр парадной презентации уступает место едва ли не лабораторному исследованию. Его результаты в целом не противоречат ожиданиям, но обнаруживают ряд тонкостей — упомянуть хотя бы выявленную тут склонность к автора к сокровенной лирике, которая обычно не сразу бросается в глаза. Фигурируют и целые пласты малоизвестного материала, никогда прежде не удостоенного публичной демонстрации — скажем, даже для давних поклонников творчества Никонова стали сюрпризом его среднеазиатские этюды начала 70-х.
Тем не менее при всей изощренности кураторской трактовки основные постулаты никоновской живописи остаются здесь неизменными — в той мере, в какой они неизменны для самого автора. Совершенно понятно, что никакая голая социальность и тем более политика его никогда не занимали всерьез, однако назвать его работы «безыдейными» язык не повернется. В них происходит то, что искусствовед Елена Мурина назвала когда-то «слиянностью материала жизни и материала живописи». Другими словами, для Никонова сюжет, каким бы он ни казался многообещающим, не существует без единственно возможного живописного решения, основанного на интуиции. Отсюда, кстати, проистекает бесконечная авторская рефлексия насчет того, получилось или нет. Твердого критерия нет, как нет и «маэстрии», нередко свойственной именитым художникам. Творчество у Никонова — постоянное сомнение.
Поэтому не стоит искать в его работах воспевания и утверждения чего-то ясного, общеизвестного, однозначного. Взять хотя бы «деревенскую тему», которая стала для Никонова ключевой еще лет сорок назад. Никакого умиления крестьянским бытом или, напротив, критического рассказа об умирании деревни вы тут не встретите. Это долгая и драматическая сага космического масштаба, где люди остаются наедине со стихиями и где стихии погибают вместе с людьми. Предельная живописная экспрессия служит визуальным эквивалентом этой философско-мистической проблематики. И было бы странно увязывать авторский трепет и драйв с какими-то идеологическими установками из советского культурологического набора. Павел Никонов — живописец с собственными правилами, так что если и приклеивать к нему ярлыки, то выбирать их придется потщательнее.

 Цивилизация
Цивилизация