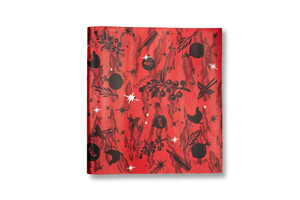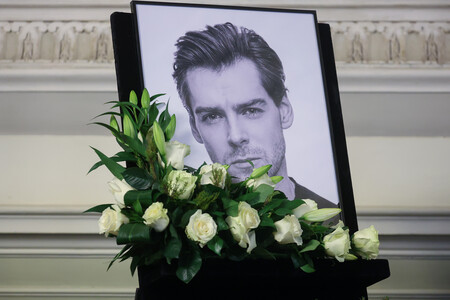Продюсерская компания Игоря Толстунова «Профит» работает на российском кинорынке с 1995 года. В активе компании — фильмы «Три истории» Киры Муратовой, «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Питер FM» Оксаны Бычковой, » Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики и еще около полусотни картин, в том числе сделанных в рамках компании «НТВ-Профит». Сейчас «Профит» заканчивает работу над картиной «Метро» по одноименному роману Дмитрия Сафонова — этот фильм-катастрофа, который частично финансировал Фонд кино, выйдет в прокат в конце нынешнего года. В 2012 году компания «Профит» не вошла в число мейджеров, которым фонд выделяет государственную поддержку. Глава компании Игорь Толстунов рассказал «Газете.Ru», насколько сложно работать с государственными средствами и можно ли делать картины без них, какие фильмы окупаются всегда и о том, нужно ли делать кино «для репутации».
— В этом году ваша компания выбыла из числа «лидеров», получающих господдержку. Вам будет труднее делать следующие проекты в новых условиях, полностью за свой счет?
— Да, в этом году мы не попали в число компаний, получающих гранты от фонда. Боюсь, если не поменяют в очередной раз «правила игры», то из списка выпадут еще 2–3 компании. В новых условиях мы планировали заниматься в основном большими постановочными проектами. А они требуют прогнозируемого процесса развития, в первую очередь финансирования. Нынешняя система господдержки на это не рассчитана. Все, что у нас в работе, мы закончим обязательно. Да, долю собственных средств в бюджете придется увеличить. Но для нас это не в первый раз.
<1>
— Как по-вашему, прием новых лидеров и изменения в схеме финансирования – приметы кардинального пересмотра политики или просто рабочая корректировка?
— Пересмотра политики не может быть, потому что нет самой государственной политики в отношении кинематографа. Многие действия, к сожалению, носят реактивный характер. Необходим системный, долгосрочный подход.
— Можете рассказать, как государство поддерживало кино до появления фонда?
— Система поддержки кино, существовавшая до появления фонда, предполагала, что объем финансирования не мог превышать 1 миллион долларов, или 30 миллионов рублей. Это означало, что если фильм выходил за бюджет в полтора миллиона долларов, то продюсер попадал уже в зону риска, в зону верной потери денег. Особенно если речь шла не о комедиях, которые могут выстрелить и собрать в прокате несколько миллионов долларов, а о таких жанрах, как драма и мелодрама, которые можно было заранее считать провальными. Приличный боевик за такие деньги не снимешь тоже – там много времени уходит на создание спецэффектов, специальные съемки, а чем дольше ты снимаешь, тем дороже.
Так и давали – каждому до миллиона. Свои плоды это принесло, фильмов стало больше, но в результате оказалось, что российские кинотеатры заполнились телевизионными по качеству фильмами, потому что ничего лучше за такие деньги снять нельзя. Понятно, что смотреть это в кино зритель не собирался – те немногие, что приходили на них, уходили, плюясь. Сборов не было, не окупалась не только печать копий, но и их доставка. То есть кинотеатральной отрасли наносился прямой вред. Для крупнобюджетных фильмов такая господдержка решающего значения не имела, но потенциальный инвестор при этом превращался в мецената. К тому моменту по-настоящему больших проектов выходило два или три в год, все они были далеки от экономики, и мотивы их производства, скажем прямо, имели мало общего с бизнесом. Это, собственно, и было меценатство со стороны крупных финансовых групп. Было ясно, что уравниловка не работает и необходимо переходить к дифференцированной системе поддержки.
— А сейчас как происходит?
— Насколько я понимаю, в этом году фонд распределит средства между 10 компаниями не поровну, как раньше, а «пропорционально» результатам. Компании направят их на производство и прокат своих проектов, исходя из внутренней политики каждой.
У многих, как я знаю, в производстве находятся крупнобюджетные фильмы, которые могут быть событиями, в том числе и коммерческими. Решение, очевидно, продуманное, несмотря на то, что, в принципе, рискованное.
— В смысле?
— Не надо забывать, что по закону не менее 30% бюджета должны составлять частные инвестиции. А это, не поверите, означает большой риск. Поясню. Если у вашей картины бюджет полтора миллиона, значит, частных инвестиций будет где-то до 500 000 долларов. А если 10 или 15 миллионов? 3–5 миллионов долларов получить или взять из собственных средств — гораздо, гораздо сложнее. Полмиллиона любая серьезная компания, если поднапряжется, может выделить из своих средств, с более крупной суммой так просто не получится. То, что выделяет Фонд кино, — это бюджетные средства, я не могу их использовать как оборотные: они идут не компании, а на проект. Далее, с учетом затрат на продвижение объем частных инвестиций в большой фильм составляет 7–8 млн долларов. Бокс-офис должен составить не менее 13–15 млн долларов, чтобы вернуть затраченные средства. Большой риск! Немногие на это идут. Это со стороны кажется, что господдержка – чистая «халява». На мой взгляд, это большая ответственность.
Необходимо учитывать и такой серьезный фактор – от начала работы над большим фильмом до его появления в кинотеатре может пройти три--четыре года, из которых два--три года уходит на производство и не менее года – на так называемый постпродакшн. У фильмов с небольшим бюджетом таких проблем нет – их нередко снимают за полтора месяца, и от начала работы до встречи со зрителем проходит не более года. Оборачиваемость средств иная.
Дорогое кино – совсем другое дело. Можно устроить хороший прокат, продать на ТВ, грамотно выпустить на DVD и т. д. – и все равно не покрыть расходов. А на фильме за полтора миллиона можно заработать. Например, успешно продав его на телевидение.
И в какой-то период все продюсеры понимали, что если бюджет полтора миллиона долларов, то риска никакого. Более того, я могу на этом даже заработать, потому что если это хороший фильм, то телевидение купит его не за 300–400 тысяч, как сейчас, а за 700–800 тысяч. Так было до кризиса, например.
— Как вам кажется, насколько верно мнение, что Фонд кино – это своего рода «дирекция единого заказчика», которая за свою финансовую поддержку в ответ хочет патриотических и социально значимых проектов?
— Требовали ли от нас «снять про родину»? Нет, мы и так все время про нее снимаем. Идея фонда – поддержка и развитие киноиндустрии в стране. У фонда есть средства и на создание социально значимых проектов, но что такое социально значимые? Иногда в комедии можно передать гораздо более важную мысль, чем через дидактично снятый и дорогой «патриотический» фильм. Всё зависит от таланта – любую идею, даже очень хорошую, можно замечательным образом похоронить.
— В театральной отрасли, например, есть госфинансирование, которое не подразумевает обязательной денежной отдачи, а лишь моральную. Может ли в случае кино работать такая система? Например, в части финансирования артхаусного кино?
— Безусловно. Театр более интеллигентное место проведения досуга, чем кино. Кино – это площадное, массовое искусство.
В коммерческом, жанровом кино всё очень просто – зритель пришел или не пришел. Пришел, заплатил – это хорошее кино, не пришел – плохое, здесь всё понятно.
У нас практически вся господдержка не требует возврата. Это закон. Для, будем говорить, артхаусных фильмов (а сегодня в эту категорию попало все неразвлекательное кино) зрителя в достаточном для окупаемости проекта количестве нет. Поэтому ожидать от некоммерческого кино финансовой отдачи – абсурд. Увеличение же отчислений фонду от реализации фильмов должно быть внимательно обсуждено с продюсерами, т. к. нельзя ущемлять интересы частных инвесторов – их и так немного. Все разговоры на эту тему я считаю популистскими и непрофессиональными.
— Но вот, к примеру, «Школу» ваша компания снимала за свои деньги, если я не ошибаюсь?
— Нет, за свои мы сделали дебют Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», а «Школу» мы снимали на деньги Первого канала. Германика мне показалась талантливым режиссером, и риск оправдался. Так бывает далеко не всегда. В прокате фильм, естественно, ничего не собрал, но за счет реализации сериала мы компенсировали все затраты и еще репутационный капитал накопили.
И если я участвую в таких проектах, то это не меценатство – если мне нравится проект, я понимаю, что принимаю участие в создании произведения искусства. Для меня это важно. Конечно, в случае удачи фильм повысит мою репутационную капитализацию, что для меня тоже важно. Я не смогу это напрямую продать, но синергия бизнеса компании увеличится. Но это всё производное, а в первую очередь я занимаюсь художественными проектами исключительно из личных пристрастий. Вот я увидел документальный фильм Гай Германики «Девочки» – он меня впечатлил: режиссер просто любит этих героев, не важно, хорошие они или плохие. Я, конечно, не собирался терять 800 тысяч долларов, надеялся, что Министерство культуры предоставит нам грант, но не предоставили. Бывает.
— У нас есть относительно свежий пример того, что бывает, когда приходится надеяться только на свои силы, – фильм «Шапито-шоу» 2011 года, продюсеры которого едва доползли до конца съемок…
— В подавляющем большинстве случаев мы все до финиша доползаем с большим трудом. Редко бывает, когда на фильм планируется потратить 100 рублей, а тратится 99 – как правило, выходит 101. Бюджет пухнет в процессе производства, которое зависит от очень многих факторов, в том числе и абсолютно объективных для нас: начиная с банальной погоды и болезни артистов и до сваленной ветром декорации.
— «Шапито-шоу» снимался 6 лет, и в прокат они вышли самостоятельно, через небольшую прокатную компанию.
— Этот список можно продолжить – «Форрест Гамп», «Пираты Карибского моря»: многие проекты долго-долго передавались из кабинета в кабинет, пока кто-то не увидел в проекте зерно и не помог профинансировать. В этом и состоит суть продюсерства: либо ты что-то в проекте почувствовал и занялся им, либо нет. И все продюсеры разные, у них разная интуиция, разная направленность. Всем нравится разное, и это хорошо.
— А может существовать система, подхватывающая такие проекты, способная проводить экспертизу?
— С экспертизой у нас большие проблемы. Однако существуют фонд и Минкульт, и к ним можно обратиться за поддержкой на завершение проекта.

 Цивилизация
Цивилизация