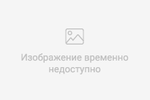В отношении Василия Ермилова не хочется употреблять слово «дизайнер», дискредитированное имитациями творчества; сам он предпочитал именовать себя «конструктором». Кроме обыденного значения в такой самоаттестации крылась еще и потаенная коннотация: художник переставал быть изобразителем реальности и становился ее создателем. Жизнь рассматривалась как пластическая масса, требующая оформления. Авангардисты ощущали себя демиургами, творящими новую вселенную. Разумеется, этот упоительный экстаз не мог длиться долго: «власти трудящихся» требовались не безудержные мечтатели, а послушные исполнители.
Уже в 1929 году Василий Ермилов впервые столкнулся с идеологической машиной сталинского образца: он подвергся жесткой «проработке» за публикацию в харьковском журнале «Авангард» своего проекта «кровати для coitus'а».
Партийные начальники недвусмысленно дали понять: не художникам решать, каковы реальные потребности населения и какими способами они должны удовлетворяться. Это был хотя еще и не смертельный, но чувствительный удар по конструктивистским идеалам. Вскоре они оказались буквально развеяны по ветру. С середины 1930-х годов и вплоть до своей кончины в 1968-м Ермилов был лишен оперативного простора, перебиваясь редкими оформительскими заказами и преподаванием. Ни о каком конструировании будущего и речи быть не могло, разве что о мысленном.
Загубленная карьера гения — хороший повод для легенды.
Фигура Василия Ермилова действительно была окружена легендарным ореолом еще при его жизни. Он выглядел эдакой харьковской достопримечательностью для понимающих. Могло показаться, впрочем, что слава его базировалась исключительно на слухах и воспоминаниях, и что материальных следов былого творческого подъема почти не осталось. Тем более сам художник утверждал, что большая часть его произведений 1920–1930-х годов не сохранилась. Но вот дошло дело до ретроспективной выставки (она устроена Мультимедиа Арт Музеем совместно с галереей «Проун»), и выяснилось, что наследие Ермилова не так уж и малочисленно. Правда, от монументальных экспериментов остались лишь эскизы и фотографии. Исключение составили разве что деревянные макеты нескольких объектов: агитационно-рекламной установки-трибуны к 10-летию Октября, скульптурной композиции «Три русские революции», «Монумента ленинской эпохи». Едва ли не посланием от внеземных цивилизаций выглядят эскизы интерьерного дизайна, разработанного в середине 30-х для харьковского Дворца пионеров и октябрят. Весьма любопытны ранние работы в кубистической манере, раскрашенные деревянные рельефы, фотомонтажи для книжных обложек.
Довольно внушительно представлен и поздний период жизни, когда Ермилов, почувствовав возрождение интереса к своему искусству, вновь взялся «за старое».
Пускай это все осколки и фрагменты, собранные воедино из нескольких частных коллекций лишь на время выставки, все же масштаб личности автора обнаруживается здесь без труда. За макетами поэтических сборников Велимира Хлебникова вырисовывается дружеская связь «Председателя Земного Шара» и харьковского «конструктора». За эскизами росписи революционного агитпоезда просматривается безоглядная вера в новую жизнь. В коллажном диптихе под названием «На пляже» мнится интуитивное предчувствие грядущего поп-арта… Едва ли не каждый экспонат выставки вызывает те или иные ассоциации с мировой культурой. Видно, не зря все-таки Ермилова прозвали «украинским Пикассо». Хотя это сравнение может показаться надуманным: слишком уж велик разрыв между двумя этими мастерами в общепринятой иерархии. Но между их творческими потенциалами подобной пропасти нет. Важнейшее различие в том, что Пикассо свой потенциал смог реализовать на все сто, а Ермилов — даже не наполовину. Само собой, говорить о чьем-либо творчестве в сослагательном наклонении — дурной тон, однако увидеть в ермиловском наследии, при всей его разрозненности, определенный «замах на вечность» все-таки реально.

 Цивилизация
Цивилизация