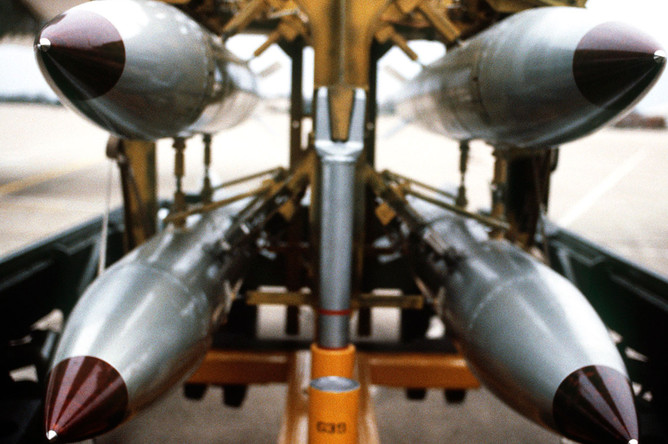— Вы учились на оперном отделении в музыкальном училище…
— Это уже никак не связано. Разве только с тем, что я всегда очень любил петь и до какого-то времени видел себя исключительно певцом, причем оперным, академическим. В юности мне думалось, что литература – это что-то несерьезное, временное, а академический вокал – настоящее. Но специфика литературы в том, что она может помочь человеку развиться творчески. А вокал уже подразумевает очень мощную природу. Гораздо легче работать, когда у тебя серьезные оперные данные.
— Так почему вы вдруг решили писать песни?
— Литература – это мука, тяжелейший труд. Роман напоминает чемодан без ручки, который с каждым днем прибавляет в весе, а бросить его нельзя. Пение же – это радость, причем сиюминутная. Я рад и книге, но удовлетворения от нее слишком долго ждешь. А с песней иначе. Пока ты пишешь ее – радуешься. И исполняешь – радуешься. Десять раз спел – десять раз обрадовался. И сцену я люблю, мне там хорошо. А многочасовые муки за письменным столом, когда ты сидишь, пишешь абзац за абзацем, – это нужный, но нерадостный труд. Иногда он выпивает из тебя кровь.
Когда я был совсем юным, мне казалось, что стоит заниматься только роком. Лет в 16 я пытался сделать что-то похожее на Гребенщикова, а в 19 что-то вроде Red Hot Chili Peppers. А потом, слава те господи, голос сорвал, оказался в больнице. Меня отправили восстанавливать связки к фониатору, и тут я узнал, что существует другой мир, где люди поют совсем другими голосами.
На какое-то время я полностью переключился на прозу. Хотя и продолжал время от времени петь для своих. Приехав в Москву, дал два концерта. У меня в репертуаре были незапетые песни советской эстрады и цикл песен о Сталине, которые я откопал на старом виниле. Вдруг в романе «Библиотекарь» у меня появился свой песенный текст. Скоро случился импровизированный концерт в Берлине, для которого уже была готова песня-шутка под названием «Эсэсовская лирическая» на музыку Пахмутовой «Я не могу иначе». Ее закинули в YouTube, там возникла какая-то странная движуха. И тогда настал момент, когда на концертах вместе с песнями о Сталине я исполнял пару своих. Так продолжалось до самого лета, пока в Москву не пришел смог. Это был абсолютно потусторонний мир измененного сознания. Я пытался усадить себя за новую книгу, но проза не писалась по жаре. И вдруг я начал, непонятно почему, делать песни, по 3–4 штуки в день. И все две недели я их писал, отправляя своим друзьям. Девять десятых своего репертуара я написал во время смога.
— Вам нравится, что в зале во время выступления звучит смех?
— Это хорошо. Потому что я рассказываю истории, на которые должен получить эмоциональный отклик. Часто люди обижаются: кого-то текст оскорбляет, они переживают. Бывает по-разному. Например, один очень известный музыкант, имени которого я не стану называть, был очень оскорблен моей песней про Окуджаву: он решил, что это оскорбление памяти артиста. Мне казалось, что он более веселый, свободный человек, — я пытался объяснить, что это некий десакрализированный образ. Вначале появилось то, что он горбатый, а потом история про него сама рассказалась. Я создал собственного Окуджаву, он в таком виде мне приятней – веселый романтический фашист-гопник, который ходит с аккордеоном, кричит, что надо всех подорвать. Хотя и к тому Окуджаве, который пел о муравье, я отношусь с уважением. Но объяснять тому человеку это бессмысленно.
— А вы какие чувства испытываете, когда видите, что человек вашим творчеством задет?
— Понимаете, какая штука. Я уже взрослый человек, а до сих пор не научился управлять ни своим текстом, ни музыкальными фрагментами. Я делаю только то, что получается. Иногда я пишу песню и думаю: «Господи, как же я буду это петь? Что же это такое получилось?» Но что-то во мне говорит: все хорошо, так и надо. Но мне такое неловко петь. А что-то внутри в ответ: а что делать, надо. Опыт мне подсказывает, что нельзя себя ломать. Если на свет захотел явиться именно такой продукт, не надо его выкорчевывать, давить изнутри. Потому что творческая природа очень обидчива. Если ее закапывать и выламывать, она может однажды отказаться с тобой сотрудничать. И вообще я не хожу в те места, где меня могут неправильно понять. Например, в клуб любителей Окуджавы.
— А ведь они сами могут к вам прийти.
— А вот если пришли сами, то извольте слушать. Концерт – это не форма дискуссии. В любом случае, если я вижу, что человек обиделся, мне неприятно. Я не люблю ранить людей.
— Почему тогда вы так часто поете о фашистах?
— Наверное, потому что это болезненная тема, к которой наше государство подошло настолько бездарно, настолько грубо, настолько нетворчески, что меня это цепляет, — я переосмысляю ее через персонажей, которые об этом поют. Все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — это результат чудовищной социальной трагедии, происходящей в России. Пока мы будем строить этот уродский капитализм, мы обречены на проблемы. Фашизм – это реакция униженного человека. Поскольку унижено 80% русского населения в этой стране, извольте хавать это недовольство.
И опять-таки я всегда отстаиваю право человека на бескультурие. Человек имеет право быть неумным, дураком. Поэтому он может кого-то не любить, не принимать, не будучи за это наказанным. Вот, к примеру, не нравятся мне гомосексуалисты. Ну не нравятся они мне! Я не хочу кричать «ура!», когда вижу по телевизору, где мне пытаются доказать, что они талантливые, хорошие. Я отстаиваю право и за населением так высказываться. Но поскольку я более ловкий, чем чиновники, человек, то могу сделать это изящнее. Я не люблю действовать грубо, в лоб. В отличие от власти, которая у нас дико нехудожественная. Это ее проблема.
— У вас внятная гражданская позиция, которую вы часто высказываете. На канале Russia.ru можно найти много примеров. В литературе вы ее почти не касаетесь. А в песнях будете?
— Я (тот, кто сидит сейчас тут или несет глупости перед камерой) не имею никакого отношения к той сущности, которая пишет. Может быть, я сам гораздо глупее того, кто пишет книги и песни. Поэтому я часто позволяю себе какие-то неумные высказывания, они, может быть, неправильные и неглубокие. Может быть, я человек поверхностный сам по себе. Текст – это другая организация ума, энергии: там человек может быть тоньше, он не позволяет себе делать глупости. Самое плохое, что может быть на свете, — это четкая авторская позиция. Это называется манипуляцией. Доказать то, что фашизм — плохо, можно и не говоря ничего. Просто продемонстрировав какую-то ситуацию, предоставив человеку решить самому, плохо это или хорошо. Иногда мне кажется, что в лучших моих текстах мне удается не давать оценки и предоставить читателю самому решить, как ему относиться к событиям.
— Ваши сущности, надо понимать, существуют параллельно.
— Ну да, но это не шизофренические какие-то сущности. Я их не разделяю и не даю им отдельных имен. Просто когда я обычный человек, то могу быть неумным, эмоциональным, недостаточно образованным. А есть нечто выше этого, творческая атмосфера, в которой даже посредственный человек может вести себя как надо. Так тоже бывает.

 Цивилизация
Цивилизация