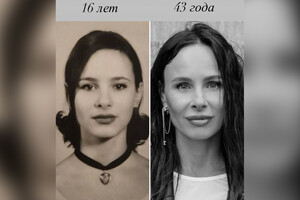Ровно пятнадцать лет назад мне позвонили из одной небольшой газеты и попросили сделать геополитический прогноз. «Касательно России?» — спросил я. «Ну зачем так узко? — ответил редактор. — Прогноз-то геополитический (он произнес это слово с особым выражением), значит — касательно всей планеты». «Ага, — сказал я. — А, простите, на какой срок, на какую перспективу?» «На весь XXI век!» «Хорошо, — сказал я. — Какой нужен объем текста?» «Странички полторы!» — радостно сказал редактор. Я тоже обрадовался. Прогноз всего мирового развития на весь XXI век на полутора страничках — да мы это мигом!
Уже давно этой газеты нет, а прогноз остался. Вот он, пожалуйста:
«Главная проблема ХХI столетия — это сочетание разрывов и глобализации. Во всем мире будут увеличиваться экономические и социальные разрывы между группами государств, между отдельными государствами, а также между регионами и социальными слоями в границах одного государства.
Вместе с тем будут интенсивно развиваться глобальные технологические, экономические, информационные и культурно-языковые системы — своего рода «оболочки планеты», в которых задается мировой технологический стандарт и правила экономических и политических взаимодействий. В этих оболочках не будут работать привычные представления о суверенитете и национальном интересе — меж тем как экономическая и интеллектуальная активность будет все сильнее перемещаться именно туда.
Сочетание драматических разрывов в качестве жизни с глобализацией экономики, информации и отчасти права приведет к дальнейшей активизации миграционных потоков на всех уровнях, к новому росту социальной, межэтнической и межгосударственной напряженности.
Многие государства будут соблазнены простым решением — пересмотреть правовые стандарты и возвести прочный барьер на пути миграций. Но это немедленно снизит рейтинг страны как субъекта глобальных процессов.
Несмотря на глобализацию, государство как единство территории, населения и политической власти останется главным субъектом мировой политики и экономики. Более того, в условиях глобализации роль государства как субъекта национальной стратегии возрастет. Только сильное государство будет способно гарантировать адекватную интеграцию страны и ее ресурсов в систему глобальных взаимосвязей и тем самым — обеспечить территориальную и социальную мобильность своих граждан, повысить качество их жизни и уменьшить социальное неравенство.
Но что такое сильное государство в XXI веке?
Традиционные геополитические представления о мире как о большой шахматной доске, где белые и черные ферзи-сверхдержавы и пешки-сателлиты едят друг друга по классическим правилам военно-территориального соперничества, в наступившем веке окончательно уйдут в прошлое. Доминантой будущего станет интеграция, как экономическая, так и военно-политическая. От того, насколько искусным будет каждое отдельное государство в выстраивании систем экономической кооперации и интегрированной безопасности, будут целиком зависеть его шансы на благополучие. Разумеется, это удастся далеко не всем.
К тридцатым-сороковым годам XXI века окончательно оформятся группы «успешных», «имеющих шанс» и «безнадежных» стран (это же относится к регионам в среднеразвитых странах). На протяжении следующих двух-трех десятилетий срединная группа («имеющие шанс») практически исчезнет. Новая биполярность «успешных» и «безнадежных» спровоцирует серьезный мировой конфликт, тем более вероятный, что в слаборазвитых странах будут существовать агрессивные элиты, имеющие доступ к глобальным информационным технологиям.
Возможно, результатом такого конфликта станет реванш слаборазвитых стран со всеми политическими и культурными последствиями. Но, скорее всего, высокоразвитые страны найдут пути выхода из кризиса и установят новый мировой порядок, основанный на ответственности богатых стран за страны бедные, а также на жестких силовых гарантиях мира, стабильности и демократии.
Россия имеет все предпосылки перейти из категории «имеющих шанс» в группу «успешных».
Для этого ей необходимо приступить к полномасштабной интеграции в сообщество развитых стран. На это уйдет не менее полувека напряженной работы, но в противном случае наши правнуки будут получать оскорбительное для наследников великой культуры «пособие по безнадежности».
Перечитав эти лихие строки, я не хочу от них отказываться и говорить, что это была всего лишь игра ума или ситуация, которую Остап Бендер называл «джентльмен в поисках десятки» (журналист в поисках тысчонки). Нет, я согласен сам с собой.
Правда, конфликт между «успешными» и «безнадежными» странами (вернее, теми, которые уверовали в свою безнадежность), кажется, начинается уже сейчас. Такая ошибка психологически понятна: всегда хочется отнести что-то неприятное на пару-тройку поколений вперед.
Однако жизнь идет быстрее прогнозов: в частности, упомянутые «оболочки» (частью из которых стали социальные сети) развились быстрее, чем казалось из 2000 года. Идея, которая попадает в социальные сети, становится материальной силой уже потому, что обрастает мускулатурой лайков и перепостов; а фейсбук — это не только коллективный пропагандист и агитатор, но эффективнейший коллективный организатор.
Именно в сетях, которые и являются глобализацией как таковой — то есть глобализацией в ее живом, натуральном, конкретно-чувственном выражении, именно в них по-новому ощущаются, осмысляются и формулируются разрывы. В богатстве, в качестве жизни, в ментальности, в ценностях и стиле жизни, в манере отвечать на неприятные вопросы бытия: постить котиков или договариваться о всеобщей политической стачке.
Но вернемся к теме, заявленной в заголовке.
Президент Франции Олланд сказал, что теракт в Париже — это война против Франции. Через несколько дней министр иностранных дел России Лавров сказал то же самое про взрыв российского самолета над Синаем.
Но пока это более чем метафоры. Да, в ответ на теракты Россия и Франция усиливают бомбардировку опорных пунктов террористов, однако войной это не является. Война — это сухопутная операция. Авиа- и ракетные удары (как в старину артобстрел) — это подготовка к вторжению, если речь идет о войне. Иначе это что угодно: демонстрация силы, акция устрашения, «хирургическая операция» по ликвидации какого-то раздражающего завода или аэродрома — но не война.
Даже если ракеты одной стороны уничтожат все до последнего суслика на территории противника — война не окончена, пока туда не придет пехота вместе с оккупационной администрацией.
А на выжженной земле, по которой ветер гонит радиоактивный пепел, оккупантам делать нечего… Получается парадокс: чем сильнее бомбить страну, тем меньше надежды выиграть войну — в предельном случае выигрыш составит сомнительная слава военного преступника. Особенно если бомбить не суверена, а незаконные вооруженные формирования — поскольку приглашение их к неким «большим переговорам» о прекращении огня или даже о капитуляции означает их легитимацию, что совершенно не нужно никому, кроме самих террористов.
Возникает парадокс еще более крутой и резкий: террористы уже ведут сухопутную войну против Европы и России (не так уж важно, где взорвалась бомба — в театре или в самолете). Они действуют отдельными диверсионными формированиями. Большие государства посылают бомбардировщики и ракеты. Результат: действия террористов если не эффективней, то уж точно — эффектней.
Мы не можем предположить, какой эффект — в обоих смыслах слова — вызвало попадание российской ракеты или французской бомбы в лагерь террористов где-нибудь в горах или в пустыне. Эффект от парижских терактов налицо.
Он, кстати, аукается и действиями психопатов, которые сообщают о заминированных вокзалах, стадионах, торговых центрах, что тоже не прибавляет спокойствия гражданам.
Мне кажется, что война в общепринятом смысле слова начнется тогда, когда число жертв террора и диверсий явно превысит число возможных потерь в результате военной операции. Когда количество жертв приблизится (это мои субъективные прикидки) к 10 тыс. человек за год — вот тогда в Европе испарится этот странный коктейль из самоуспокоенности, извращенно истолкованной толерантности, превалирования бизнес-интересов над национальными, да и простого нежелания умирать за родину и вообще жертвовать своим комфортом ради чего-то несъедобного. Каковое нежелание особенно возросло и расцвело в прекрасную эпоху экономического роста. Впрочем, у Европы (и у России, и у России тоже, давайте будем исторически честны) есть опыт резиньяции, опыт терпимого поражения, опыт сносной жизни под оккупацией.
Патриотизм — вопрос количества. Пока нацист убивает «только евреев и коммунистов», можно жить и при «новом порядке» — хоть в Париже, хоть в Смоленске. Но когда нацист начинает расстреливать заложников, жечь дома и устраивать карательные рейды — вот тут возникает сопротивление.
В основе политики лежит популяционное чувство. Демографическое самоощущение. Оно загадочно, но могущественно.
Мне кажется, что популяционное чувство Европы если не пробудилось уже сегодня, то проснется довольно скоро.
Будущая война, однако же, не станет просто очередной заморской, экспедиционной войной. Она будет иметь отчетливый привкус войны гражданской. В ней будут действовать четыре главные силы (разумеется, эти определения достаточно условны): европейские правые, европейские левые либералы, исламские фундаменталисты и умеренные (они же «светские») мусульмане. Здесь будут возможны странные альянсы: между умеренными мусульманами и европейскими правыми/националистами, а с другой стороны — между европейскими левыми либералами и исламскими фундаменталистами.
Противостояние между правыми и левыми в Европе может стать таким же ожесточенным, как между отрядами террористов-фанатиков и их противниками.
Иногда кажется, что активность исламских воюющих фундаменталистов отражает какие-то глубинные, незаметные, но чрезвычайно важные подвижки в мусульманском мире. Всесторонняя модернизация этих стран мало-помалу модернизирует и религиозное чувство. Почему в христианских странах эра фанатичной веры, крестовых походов и инквизиции сменилась эрой светских государств, перемещением религии в частную жизнь, в область духовного утешения? Потому что наступила экономическая, а вслед за ней — политическая и культурная модернизация. То же самое в перспективе ждет и ислам.
Воинствующий религиозный фундаментализм — это реакция на саму возможность модернизации религии. А такая возможность более чем реальна, поскольку реальна модернизация всей остальной жизни.
Предстоящая война закончится двумя важнейшими вещами — исламской реформацией и сменой европейской гуманитарной парадигмы.
Ислам станет более мягким, терпимым, аполитичным. В Европе же возродятся ценности нации, воинской доблести, дисциплины, подтянутости, «цельной личности».
Какова будет позиция России? Россия, полагаю, вернется к своим европейским корням и будет развивать интеграцию со странами Запада. Жаль, что для этого понадобится целая война, — но история, как и музыка, обратно не играет.
Разумеется, это всего лишь один из сценариев. Возможны и другие — куда более кровавые, безнадежные, тупиковые. Но давно известно: реализуется тот сценарий, который всерьез решили реализовать.
Это относится и к кино, и к текущей истории.

 Цивилизация
Цивилизация