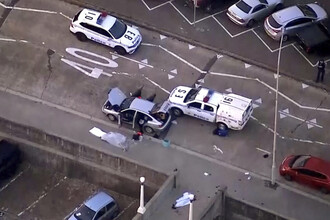22 августа, в понедельник, ко мне приехали с дачи от бабушки дети. В тот же самый день Михаил Ходорковский в тюрьме сказал своему адвокату Антону Дрелю, что держит сухую голодовку в знак протеста против того, что его друга Платона Лебедева посадили в карцер.
Я очень соскучился по детям и с большим удовольствием провел с ними целый день. Катался с шестнадцатилетним сыном на велосипеде, а с пятилетней дочкой пошел в скверик качаться на качелях. У нас такой маленький скверик, а посреди скверика стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Маленькая такая стела с клумбой и газоном. Так вот, на газоне перед памятником лежал человек.
Моя дочь бежала вприпрыжку к качелям в скверике, но вдруг увидела этого человека, лежавшего на газоне, остановилась и сказала:
— Папа, там лежит кто-то. Надо подойти и спросить, вдруг ему плохо.
Ей пять лет. Она понимает. Мы подошли к человеку, лежавшему в траве, спросили, не плохо ли ему и не надо ли чем помочь. Человек послал нас на …, неразборчиво объяснил нам, что просто спит здесь, и, насколько мог в его состоянии, вежливо попросил нас больше не приставать. И мы с дочкой, убедившись, что человеку, лежавшему на траве, не плохо, а вполне даже, может быть, и хорошо, пошли качаться на качелях.
На следующий день, 23-го августа, во вторник, адвокат Антон Дрель сказал журналистам, что Михаил Ходорковский в тюрьме объявил сухую голодовку.
Что тут началось! Официальные власти ответили, что, поскольку Ходорковский не написал заявления о начале голодовки, так, стало быть, и не голодает. Государственные телеканалы принялись сообщать, что Ходорковский купил, дескать, в тюремном ларьке еды на четыре тысячи рублей и, стало быть, опять же, не голодает. Даже независимые средства массовой информации, и те позволяли себе сомневаться в радиоэфирах и на газетных полосах: так-таки, прям, голодает, так-таки, прям, всухую? На прошедшей неделе я много раз слышал от разных совершенно людей лениво процеженную сквозь зубы фразу: «Да брось ты! Какая голодовка! Жрет там, небось, в тюрьме, черную икру!»
Глупо спорить с официальными властями и возражать, что, дескать, не обязательно писать заявление о голодовке, чтобы начать голодовку. Глупо спорить с государственными телеканалами, рассказывая, что Ходорковский с самого дня своей посадки имеет общеизвестное обыкновение кормить всю камеру, в которой сидит, и потому покупает в ларьке еду, даже когда объявил голодовку. Глупо спорить. Но я беспокоюсь о тысячах и, может быть, миллионах людей, которые услышали, что Ходорковский голодает, и тут же с удовольствием приняли транслированное по телевизору подлое объяснение, что голодовка, дескать, ложная. Люди, вы чего? Почему моя пятилетняя дочка понимает, что надо спросить у лежащего на траве человека, не плохо ли ему, а вы считаете возможным не верить, что человек, объявивший голодовку, голодает? Вы чего?
Если ваш ребенок сообщает вам вдруг, что у него болит живот, — вы вызываете врача, опасаясь острого аппендицита, или говорите своему ребенку: «Перестань притворяться, вставай и иди в школу»?
Если вы идете по улице и видите, например, стоящую на окне девушку, вознамерившуюся покончить жизнь самоубийством, — вы говорите случайным прохожим: «Да не прыгнет она, все юношеские бредни», — или пытаетесь девушку от самоубийства отговорить?
Если вы едете по городу и видите лежащую на асфальте старуху — вы останавливаетесь помочь или с мыслью «вот, напилась, старая карга» отворачиваетесь и проезжаете мимо?
Люди, вы чего?
Всякий человек, который не придал значения сообщению о том, что затонула подводная лодка «Курск», стал соучастником гибели подводной лодки. Всякий, кто не посчитал важным сообщение о захвате бесланской школы, стал соучастником гибели детей. Всякий, кто не вызывает «скорую» своему ребенку, когда ребенок жалуется на боль в животе, рискует стать соучастником перитонита и смерти.
Вы можете ненавидеть Ходорковского и считать его преступником, но, если вы не верите, что Ходорковский голодает, вы, возможно, принимаете участие в пытках.
Вы пассивный палач.

 Цивилизация
Цивилизация