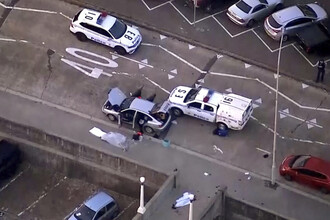Третьяковская галерея разразилась сразу двумя персоналками. В залах Инженерного корпуса (Лаврушинский пер., 12) соседствуют «Превратности» Евгения Додонова и живописные опусы Анатолия Слепышева, не получившие заголовка. Соединение двух экспозиций в одном пространстве – дело чисто механическое и почти случайное. Параллели между биографиями никак не проводятся, а зрительские ощущения от выставок и вовсе диаметрально противоположны. В смысле не оценок, а восприятия: размашистые холсты Слепышева, любимца свободомыслящей критики в 1970–1980-е годы, ходом мысли и способом изображения отличаются от сюрсимволистских композиций Додонова, довольно давно умершего и публике практически не знакомого.
В экспозиции у Слепышева преобладают работы последнего времени, что не слишком воодушевляет. Многие зрители и до выставки сходились на том, что шестилетнее пребывание художника во Франции на пользу его творчеству не пошло. Внешне вроде бы все то же самое: лихие пастозные мазки, зияющие там и тут прогалы живописной поверхности, слабо выявленные и временами просто утопающие в красочной массе сюжеты – полный набор фирменных приемов двадцатилетней давности. Но за что раньше хвалили, за то теперь готовы укорять.
Не Франция виновата, конечно, и не переменчивость настроений публики. Пожалуй, что и никто не виноват в падении качества. Былая виртуозность кисти превращается в небрежную маэстрию, все менее оправданны гигантские форматы: зачем наращивать площадь произведения, если в его фрагментах не происходит ничего художественно интересного? К прежним запряженным лошадкам и среднерусским сельским улочкам добавились Булонский лес с Дюссельдорфским парком, но видимых изменений в манере это не повлекло. Литературщина и аллегоризм, искрой проскакивавшие и раньше, выливаются теперь в претенциозные и надуманные композиции вроде «Бегства Наполеона». Как ни странно, на выставке Слепышева, всегда слывшего прирожденным живописцем, самыми удачными оказываются акварели и тушевые рисунки. Особенно серия с охотниками: здесь есть драгоценные качества изображения, куда-то пропадающие при увеличении форматов и смене техники.
У Евгения Додонова отношения между графикой и живописью тоже напряженные, но мотивы творческого поведения совершенно иные. Путь художника, сотрудничавшего в 30-е годы с Мейерхольдом и Завадским, был надолго прерван лагерем и последующей ссылкой. По сути, экспонируются итоговые вещи, в которых автор стремился передать опыт всей жизни. Вместо нарочитого слепышевского артистизма – напряженное кропание карандашом по бумаге, бесконечное варьирование цитат, сцепление фантасмагорий, выверенных до миллиметра и хаотичных одновременно. Когда сотни рисунков дистиллируются в полотно (живописные работы у Додонова были крайне редки: слишком большое значение он им придавал), окончательно уходит дыхание свежести, и так не слишком ощутимое. В принципе дело вкуса: у предлагаемого типа изображения есть немало искренних приверженцев. Если вы склонны к разгадыванию ребусов и умозрительным метафизическим построениям, если вас не смущает синтез древнерусской фрески с «формулами» Филонова и провокациями Сальвадора Дали, то Евгений Додонов – художник для вас.
Кроме занятий собственным искусством он активно преподавал у себя в мастерской и был, судя по отзывам, весьма харизматическим педагогом. Через его уроки с той или иной степенью погруженности прошли художники, чьи имена сегодня на слуху: Владимир Брайнин, Максим Кантор, Ирина Нахова, Владимир Сальников. Следов додоновского преподавания у них практически не сыщешь (ближе других к своеобразному аллегорическому экспрессионизму стоит, пожалуй, Кантор, чья выставка проходила в том же зале около года назад). Да и вообще, сейчас так не носят: работы Евгения Додонова плотно, без зазоров укладываются в свое время и в свой контекст – в андерграундные 60-е. Укладываются достаточно хорошо, чтобы проявить к ним интерес с точки зрения системной истории искусства.

 Цивилизация
Цивилизация